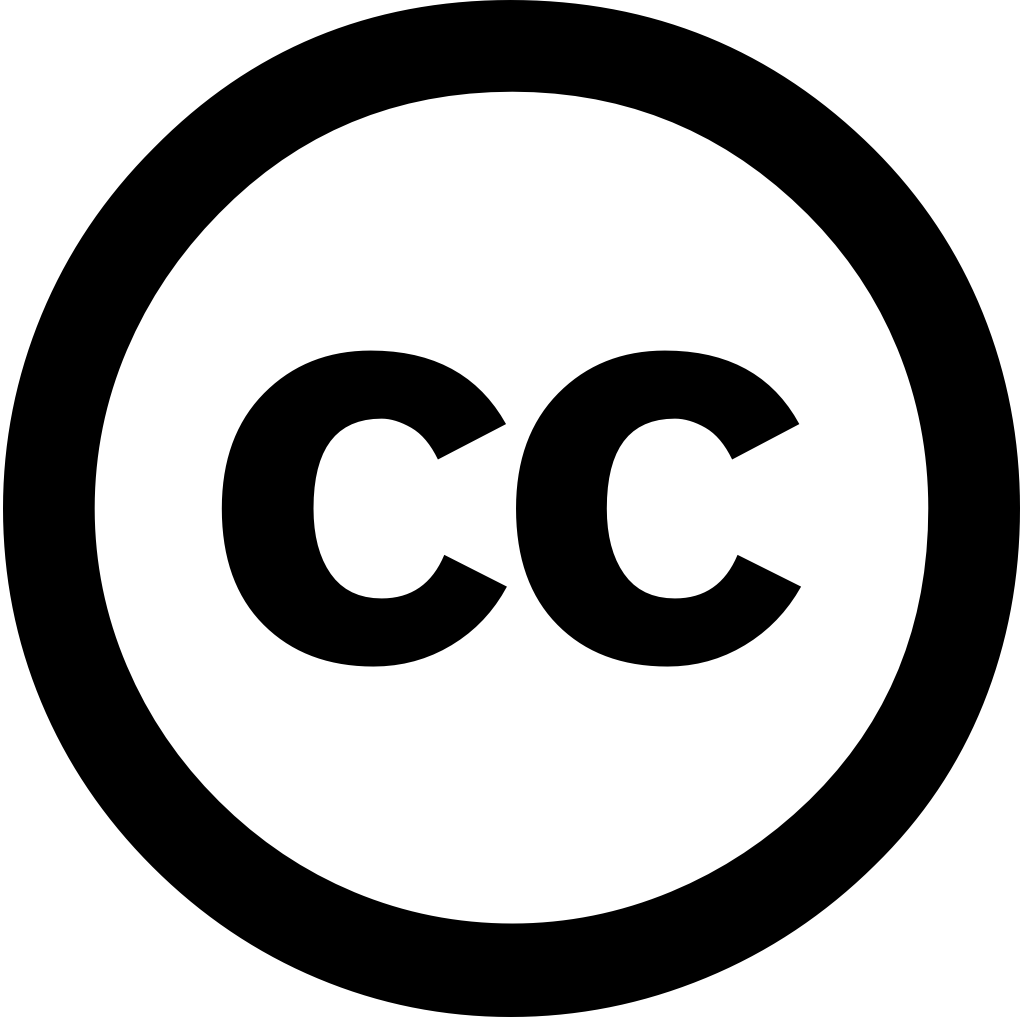Перуново заклятье

Неизвестный источник
Опубликована Июль 1, 1918
Последнее обновление статьи Июль 15, 2023
Аннотация
Старинная новгородская легенда рассказывает: когда новгородцы при Владимире Святом сбросили идол Перуна в Волхов, рассерженный бог, доплыв до моста, выкинул на него палку со словами: «вот вам, новгородцы, от меня на память». С тех пор новгородцы в урочное время сходятся с палками на волховском мосту и начинают драться как бешеные. Ключевский вспоминает об этой легенде в связи с даваемой им характеристикой древне-русского веча, этого фундамента нашего старого народоправства. «На вече,—говорит он,—по самому его составу не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, ни правильного голосования. Решение составлялось на глаз, лучше сказать на слух, скорее по силе криков, чем по большинству голосов. Когда вече разделялось на партии, приговор вырабатывался насильственным образом, посредством драки: осилившая сторона и признавалась большинством... Иногда весь город «раздирался» между боровшимися партиями, и тогда собиралось одновременно два веча... Случалось не раз, раздор кончался тем, что оба веча, двинувшись друг против друга, сходились на большом волховском мосту и начинали побоище, если духовенство вовремя не успевало разнять противников».
Так мстил низверженный Перун новгородцам: выходило так, что новгородцы, сбросив его, стали управляться в конечном счете палкой.
Но ограничилась ли месть Перуна одними только новгородцами? Увы, мы знаем теперь, что нет: злое заклятье легло на весь русский народ и на всю до сих пор его историю. Мы знаем, что палочное вечевое народоправство сменилось палочным самодержавием — жезлом Ивана Грозного, дубинкой Петра Великого, шпицруте нами Николая I. Наступившее недавно «освобождение» завершилось «диктатурой пролетариата», и снова повторяется, но уже в огромном всероссийском масштабе, нарисованная выше картина старорусского «народоправства». Разве не так же отсутствует теперь правильное обсуждение вопросов и правильное голосование? Разве не так же принимаются решения «скорее по силе криков, чем по большинству голосов»? Разве не так же при разделении на партии «приговор вырабатывается насильственным образом, посредством драки»? Разница, конечно, в том, что вместо сравнительно скромных архаических палок теперь действуют орудия и пулеметы, да вместо маленького волховского моста у нас появилось множество больших внутренних фронтов...
Палка Перуна гуляет. Либо мы сами себя неистово колотим, либо нас неистово колотят, иного способа жить вместе, иного способа осуществлять свое национальное «самоопределение» мы как будто не знаем...
Ключевые слова
Общество
I
Старинная новгородская легенда рассказывает: когда новгородцы при Владимире Святом сбросили идол Перуна в Волхов, рассерженный бог, доплыв до моста, выкинул на него палку со словами: «Вот вам, новгородцы, от меня на память». С тех пор новгородцы в урочное время сходятся с палками на волховском мосту и начинают драться как бешеные. Ключевский вспоминает об этой легенде в связи с даваемой им характеристикой древнерусского веча, этого фундамента нашего старого народоправства. «На вече, — говорит он,1 (Курс русской истории. Т. II. С. 83 – 84. [См.: Ключевский В. О. Сочинения в 9 томах. М„ 1988. Т. 2. С. 65—66.]) — по самому его составу не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, ни правильного голосования. Решение составлялось на глаз, лучше сказать на слух, скорее по силе криков, чем по большинству голосов. Когда вече разделялось на партии, приговор вырабатывался насильственным образом, посредством драки: осилившая сторона и признавалась большинством... Иногда весь город «раздирался» между боровшимися партиями, и тогда собиралось одновременно два веча... Случалось не раз, раздор кончался тем, что оба веча, двинувшись друг против друга, сходились на большом волховском мосту и начинали побоище, если духовенство вовремя не успевало разнять противников».
Так мстил низверженный Перун новгородцам: выходило так, что новгородцы, сбросив его, стали управляться в конечном счете палкой.
Но ограничилась ли месть Перуна одними только новгородцами? Увы, мы знаем теперь, что нет: злое заклятье легло на весь русский народ и на всю до сих пор его историю. Мы знаем, что палочное вечевое народоправство сменилось палочным самодержавием — жезлом Ивана Грозного, дубинкой Петра Великого, шпицрутенами Николая I. Наступившее недавно «освобождение» завершилось «диктатурой пролетариата», и снова повторяется, но уже в огромном всероссийском масштабе, нарисованная выше картина старорусского «народоправства». Разве не так же отсутствует теперь правильное обсуждение вопросов и правильное голосование? Разве не так же принимаются решения «скорее по силе криков, чем по большинству голосов»? Разве не так же при разделении на партии «приговор вырабатывается насильственным образом, посредством драки»? Разница, конечно, в том, что вместо сравнительно скромных архаических палок теперь действуют орудия и пулеметы, да вместо маленького волховского моста у нас появилось множество больших внутренних фронтов...
Палка Перуна гуляет. Либо мы сами себя неистово колотим, либо нас неистово колотят, иного способа жить вместе, иного способа осуществлять свое национальное «самоопределение» мы как будто не знаем...
II
Переход от монархии к республике является вообще моментом критическим и опасным. Дело в том, что авторитет монархии и монарха покоится всегда на некотором иррациональном основании. Власть монарха в народной психике всегда снабжена в большей или меньшей степени такой или иной сверхразумной санкцией, вследствие чего этой власти повинуются легче и проще, особенно там, где она имеет за собой давность столетий. Власть же демократическая, выборная совершенно лишена подобной иррациональной поддержки; вся она должна опираться исключительно на рациональные мотивы и прежде всего на гражданское сознание необходимости порядка и власти вообще. Эти же рациональные мотивы далеко не всегда оказываются равными по силе прежним, и неудивительно поэтому, если современные социологи отмечают, что демократизация государства приводит сплошь и рядом к ослаблению психологического влияния власти и психологической силы закона. Ибо кто наделяет людей властью, кто издает законы? Наши же представители, т. е. в конечном счете мы сами. И вот власть и закон лишаются своего прежнего мистического авторитета. Таким образом,— говорит J. Cruet,2 (La vie du droit et l'impuissance des lois. 1908, p. 219.) — та самая идея народного суверенитета, которая дает закону наиболее солидное юридическое основание, в то же самое время психологически ослабляет его моральный авторитет; ведь в сущности всякий демократический и парламентарный режим есть не что иное, как господство критического духа («le gouvernement de l'ésprit critique»); в этом его самое лучшее и самое худшее...
При таких условиях совершенно понятно, что наш русский революционный переход от монархии к народоправству представлял в этом отношении исключительные опасности. Весь вопрос заключался в том, сумеет ли наш народ сразу и быстро, в необыкновенно трудной обстановке, в деле порядка и повиновения перейти от иррациональной основы к рациональной, сумеет ли он уловить свои подлинные национальные интересы и водворить в своих рядах надлежащую дисциплину.
Мы знаем, что история не была к нему в этом отношении добра, — она не дала ему постепенной и достаточной подготовки: умственная темнота и политическая невоспитанность народных масс ни для кого не составляли секрета. Если можно было на что надеяться, так только на здоровый инстинкт народа, да... на разумное руководительство им со стороны интеллигенции. Как же повела себя эта последняя?
III
Уже давно отмечался слабый интерес нашей интеллигенции к вопросам права. Правда, за последнее время положение дела как будто несколько улучшилось, но все же широкие круги русского интеллигентного общества оставались в этом отношении и мало сведущими и мало чувствительными. И это надо сказать в одинаковой мере об обоих лагерях, издавна борющихся у нас между собой, — лагере идеалистическом и лагере материалистическом.
Интеллигенция первого, идеалистического лагеря страстно и, надо думать, искренно ищет абсолютного добра и абсолютной правды; в этих исканиях она делится на кружки и секты, обнаруживает огромную напряженность нравственного чувства, а часто доходит даже до глубочайшего религиозного пафоса. Но в то же самое время в деле практического устроения жизни она оказывается какой-то беспомощной, а иногда даже, приходится сказать, и бесчувственной. Ища абсолютной правды, она совсем не обращает внимания на тот мир относительного, в котором мы живем; жаждая абсолютного добра, она плохо следит за тем практическим путем, по которому нам по необходимости приходится идти. Вследствие этого часто случается, что мы, как бы ослепленные нашим внутренним видением, идем напролом, безжалостно сокрушая множество таких ценностей, которые мы сами хотели бы утвердить. Ради «дальнего» мы душим «ближнего», ради свободы мы совершаем бездну насилий. И так получается то, что, погруженные в мечты о насаждении царства Божия на земле, мы совершенно не умеем устроить нашего обыкновенного нынешнего царства. Мечтая об абсолютной правде, мы живем в ужасающей неправде; мечтая о горней чистоте, мы пребываем в невылазной нравственной грязи.
По этой же причине мы свысока и с презрением относимся к праву. Мы целиком в высших областях этики, в мире абсолютного, и нам нет никакого дела до того в высокой степени относительного и несовершенного порядка человеческого общения, которым является право.
Даже более того. Многим кажется, что, оставаясь последовательными, они должны прямо отрицать право. Всякий правовой порядок, — говорят, — покоится на власти и принуждении; он по самой идее своей исключает свободу, произволения и потому противоречит основным требованиям нравственности. И вот, как известно, мы, русские, весьма склонны к анархизму, ни для одного идейного течения мира мы не дали столько видных теоретиков, как именно для анархизма (Л. Толстой, Бакунин, Кропоткин).
Конечно: мы думаем об обществе святых, а в этом обществе, — говорят даже юристы, — не будет никакой надобности в праве. Право идет к своему собственному уничтожению, а потому оставим мертвым хоронить мертвых...
Но и для другой стороны, для материалистического лагеря нашей интеллигенции, право также не имеет самостоятельной ценности. История человечества двигается не такими или иными идеями о правде и справедливости, а чисто материальными силами — интересами общественных групп и классов; право лишь санкционирует созданное борьбою этих интересов фактическое соотношение сил. Оно, таким образом, не имеет в себе ничего творческого; оно констатирует то, что есть, что создано факторами, лежащими далеко за его пределами. И естественно при таких условиях, что наше внимание склонно по преимуществу обращаться к этим последним факторам. Как бы ни определялись эти факторы ближе, все равно для права результат получается один и тот же: его игнорируют.
Но и здесь этого мало: за этим игнорированием часто также скрывается более или менее определенное отрицание. Мы говорим при этом не об отрицании тех или иных отдельных (хотя бы и очень важных) норм или институтов, как, например, брака или частной собственности, а об отрицательном отношении к самой идее права вообще.
В самом деле, если верховным критерием политики является наиболее полное осуществление классовых интересов пролетариата или крестьянства, то с этой точки зрения всякие правовые нормы или гарантии могут оказаться при известных условиях прямо вредными. Это именно тогда, когда эти гарантии (например, гарантии правосудия, недопустимость смертной казни и т.д.) связывают действия пролетариата или крестьянства или ими поставленных властей. Когда они нежелательны, вредны и тягостны. И вот, таким образом, право оказывается просто некоторым барьером, за которым прячутся, пока приходится обороняться, но который является помехой, как только почувствуют достаточно силы, чтобы перейти в наступление. Поэтому в устах представителей этого лагеря речи о праве имеют всегда неискренний характер; о нем они много вопиют, если находятся в положении побеждаемых, но моментально забывают, если оказываются победителями. То, что они в сущности признают и перед чем они в действительности преклоняются, есть исключительно сила: прав, поскольку силен. Опыт русской революции с ее «диктатурами», «революционным правосознанием», «правотворчеством снизу» и разными другими тому подобными вещами подтверждает сказанное самым наглядным и ощутительным образом.
Чему же при таком своем общем настроении могла научить интеллигенция народ, особенно в столь критический момент его истории? Могла, ли она научить его уважать право, раз она сама его не уважала? Могла ли она дать народу рациональное обоснование для подчинения власти и закону, раз она сама его не ощущала?
Очевидно, нет. Но она могла сделать худшее. Она могла в темные, невежественные массы бросить лозунги, которые способны были уничтожить даже то, что .там еще оставалось, разнуздать самые низменные инстинкты и повести к разрушению самых последних, самых элементарных основ общежития. И она это сделала...
Мы далеки от утверждения, будто в этом повинна вся русская интеллигенция. Мы знаем, что уже с самого начала революции было немало людей, которые предостерегали против бесцеремонного обращения с правом, которые звали народ к дисциплине и строгому соблюдению порядка и законности, но их голоса были скоро заглушены. «Сила крика» осталась за теми крайними флангами обоих направлений, о которых была только что речь и в которых равнодушие к праву переходило в прямое отрицание.
Нечего говорить об анархизме: каковы бы ни были его теоретические основания, его социально-психологические последствия не подлежат сомнению. Если есть учение, которое поистине предполагает святых людей, так это именно анархизм; без этого он неизбежно вырождается в звериное bellum omnium contra omnes3 (война всех против всех (лат.). Формула, данная Т. Гоббсом в «Левиафане» для характеристики естественного состояния человеческого рода («Левиафан». Гл. 13).). Разрушая последние правовые сдержки, анархизм отдает человеческое общежитие на волю индивидуального эгоизма и эгоистических аппетитов. Не вникая в глубину учения, где все-таки содержатся кое-какие против этого коррективы, невежественный ум усваивает из него только его упрощенные, боевые лозунги и усматривает в них только одно — освобождение своего эгоизма от всяких ограничений. Неизбежным последствием этого во взбаламученной народной психике является широчайший разгул всяческих преступлений. Ибо ни жизнь, ни имущество ближнего не гарантированы: на все я могу смотреть исключительно как на средство для удовлетворения моих интересов. Единственно, что еще меня может сдержать и ввести в известные границы, — это встречная палка.
Не меньшую отраву в умы вносило и другое крайнее учение — материалистический социализм. Утверждая, что право и нравственность суть только «идеологические надстройки», оно этим самым уничтожало всякое нормативное значение их, устраняло их как инстанцию, стоящую над интересами и имеющую право их судить. Какой-либо иной оценки, кроме оценки с точки зрения классового интереса, нет и быть не может. Поэтому борьба за свой классовый интерес всегда и всякими средствами законна. Всякий интерес моего класса есть законный интерес, ибо вне области интересов и над нею нет никакой высшей решающей инстанции; с другой стороны, всякое средство для защиты этого интереса дозволено, ибо что, кроме его технической непригодности для этой цели, может заставить нас от него отказаться? Можно было опасаться заранее, какой рефлекс дадут все подобные учения в той же темной и до крайности взбудораженной народной душе; действительность превзошла, однако, самые мрачные опасения.
«Материалистическое понимание истории» претворилось в грубейшее материалистическое понимание жизни. Все высшие проявления человеческого духа — совесть, честь, потребность в истине, правде и т. д. — исчезли под напором самых элементарных похотей тела. «Экономика» теории превратилась на практике в кошмарный разгул ничем не сдерживаемых звериных инстинктов, в оргию убийств, издевательств и грабежей. Пренебрежение к «идеологическим надстройкам» выросло в чудовищную враждебность ко всему, что носит на себе печать интеллигентности и культурности.
Классовый эгоизм совершенно вытравил представление о государстве и народе как целом. «Пролетариат» как особый класс, границы которого, впрочем, так и остались неясными, выделил себя из общего тела народа и занял по отношению ко всему остальному нетерпимое, воинствующее положение. Классовая борьба вылилась в самую озлобленную ненависть ко всему, что «не с нами». Нет народа, а есть только мы, «пролетарии»; все другие либо вовсе не должны существовать, либо должны нам беспрекословно служить. Так обрисовалась знаменитая отныне в истории «диктатура пролетариата»; озлобление и ненависть составляют ее душу, разрушение — ее стихию, всеобщее рабство — ее результат.
В озлоблении своем она не разбирается в средствах. Все самые элементарные принципы всякого сколько-нибудь культурного общежития, раз они становятся на пути вожделениям, объявляются буржуазной выдумкой и с поразительной смелостью отметаются. В числе их всякие человеческие, просто человеческие права. Ибо просто человека у 'нас в настоящее время нет: есть либо «пролетарий» (и притом «стоящий на советской платформе»), член безгранично господствующего сословия, либо «буржуй», существо совершенно бесправное. Нет никаких «прав», но нет и никакого «права»: вместо последнего только «революционное правосознание» победителей, т. е. их самый неприкрытый произвол.
Когда этот дух безудержного классового эгоизма, вызванный общей социалистической проповедью, стал приносить свои грозные плоды, часть самой социалистической интеллигенции пришла в смущение и стала звать назад — к идее отечества, к поддержанию порядка к дисциплине в труде. Но народ уже ее не слушал. Не слушал, тем более что другая часть того же социалистического лагеря продолжала свое черное дело. Возбуждая массы и в свою очередь возбуждаемая ими, эта часть поднялась до истинного пафоса человеконенавистничества, до истерического исступления. Быть может, в некоторые «светлые промежутки» у отдельных вожаков большевизма и мелькала мысль о необходимости остановиться и начать делать хоть какую-нибудь положительную работу (в такие минуты мы слышим даже от них по адресу пролетариата призывы к труду и дисциплине), но на этом пути положительного строительства они роковым образом были обречены на неудачу. Тут-то и обнаруживалось, что уже не они ведут за собой массы, а массы гонят их. Они имеют успех, пока зовут к разрушению, экспроприациям, конфискациям и т. д. но решительно утрачивают всякую власть, когда осмеливаются погладить против шерсти: недвусмысленное рычание по их собственному адресу являлось ответом на их призыв к порядку. И они оставляли свои попытки и бросались снова на старый путь социального неистовства, озлобленного науськивания и бессудных расправ.
Так продолжается и поныне. Вместо того чтобы способствовать нравственному оздоровлению народа, его систематически продолжают развращать. Вместо того чтобы призывать к всенародному объединению во имя общего спасения от внешнего ига, народ прямо или косвенно отдают под это иго, лишь бы только довести до конца свою чудовищную формулу «мир на фронте, война в тылу». Но мира «на фронте» все же нет, а «война в тылу» превратилась во всеобщее русское побоище. Большую бессмыслицу и больший народный позор едва ли видала когда-нибудь история...
Вот к чему привело «учительство» нашей социалистической интеллигенции! В великий героический момент призванная провести свой народ через все исторические искушения и опасности, она сама ввергла его в пропасть и выдала его врагам. Обязанная помочь народу в деле творческого устроения нового свободного уклада, она вместо этого вызвала всенародную гражданскую войну и анархию. Как зарвавшийся биржевой игрок, увлекшись погоней за еще не виданным на земле социальным строем, она проиграла тот дар свободы, который народ уже имел. Вместо благородного величия освободившегося гения она явила миру низость взбунтовавшегося раба, а русский народ выставила в виде опьяневшего Калибана на позор всему миру и всем векам.
V
Велик грех, велико должно быть и искупление. За месяцами греха должны последовать долгие десятилетия покаяния и трудной работы для воссоздания рассыпавшегося отечества.
Интеллигенция должна, прежде всего, сознать и почувствовать всю ответственность за каждое слово, с которым она идет к народу. Не буду говорить о необходимости безусловной честности и искренности в проповедовании своих идей; но и при этом условии мы должны помнить, что сплошь и рядом высказанная мысль вызывает в коллективной психологии масс совсем иные эффекты, чем те, которые вытекали бы из объективного содержания самой этой мысли. Всякое умственное общение есть двухсторонний процесс, зависящий от свойств и особенностей психического аппарата обеих сторон, и если мы хотим добиться правильного понимания нашей мысли, мы должны считаться с особенностями аппарата воспринимающего. В противном случае могут получиться самые прискорбные побочные психологические рефлексы и ужасающие искажения, как это случилось ныне с такими понятиями, как демократия, социализм, буржуазия и т. д. Мы должны помнить вообще, что коллективная психология есть нечто в высшей степени сложное, полное явлений иррациональных и капризных: иной раз легко вызвать в ней бурю, но трудно эту бурю потом утишить.
Однако первое, что должна сделать наша интеллигенция, — это честно и тщательно пересмотреть свой собственный идейный багаж. Она должна признаться, что в нынешних тяжелых испытаниях она оказалась несостоятельной даже с точки зрения своей интеллигентности, т. е. с точки зрения своих знаний и своего понимания. Она оказалась полузнающей, а иногда и вовсе незнающей того, за разрешение чего она так смело бралась. Надо, таким образом, прежде нежели учить других, тщательнее поучиться самим.
И прежде всего, полагаю, надо изменить свое отношение к идее права.
В частности, материалистическому лагерю нашей интеллигенции надо подумать о следующем. Утверждая, что пролетариат или крестьянство вправе добиваться осуществления своих классовых интересов только потому, что это суть его интересы, вы ставите этим самым защищаемые вами интересы этически на одну доску с интересами прямо противоположными. Интерес капиталистов или помещиков при такой постановке вопроса этически так же законен, как интерес рабочего: там класс и здесь класс, и если тот класс вправе бороться за свои интересы, то не менее вправе делать то же самое и этот. Не признавая над интересами и классами никакой высшей этической инстанции, вы разрешение подобного столкновения интересов предоставляете исключительно борьбе, т. е. факту, силе. А при таких условиях и ваш противник может сказать: если так, то мы еще посмотрим, кто кого — вы ли меня или я вас. Другими словами, вы сами своим учением оправдываете и борьбу против вас, вливаете в душу противника нравственную энергию, сознание своей правоты.
В действительности вы, конечно, такой этической равноправности капиталиста или землевладельца не допускаете; вы считаете требования рабочего или крестьянского класса более правильными, более заслуживающими признания и одобрения. Почему? Какие бы основания ни выдвигались при этом, все равно вы должны признать, что, прибегая к этим основаниям, вы оставляете вашу голую теорию интересов как таковых и подвергаете мысленно борьбу за них некоторой высшей этической оценке. Над борющимися интересами вы невольно мыслите какую-то высшую надклассовую инстанцию, которая одно одобряет, другое отвергает,— независимо от того, что из них побеждает в фактической борьбе. Перебирая мысленно претензии противников, вы невольно про одни из них думаете: этого он вправе требовать, а про другие: этого он не вправе.
Вы, таким образом, сами против своей воли оперируете понятиями «право» и «неправо». Да иначе, конечно, и быть не может. Ведь не всякий свой интерес вы лично признаете правым и подлежащим осуществлению; некоторые ваши интересы вы сами отвергнете как недопустимые по тем или иным основаниям. Но то же самое нужно сказать и относительно интересов целых общественных групп или классов. Ведь и у этих последних могут быть такие интересы, которые придется признать недопустимыми, например, интерес в привилегированном, эксплуататорском положении по отношению к другим группам. Если до сих пор в этом были повинны классы капиталистов или помещиков, то в будущем могут возникнуть такие же эксплуататорские поползновения в классе промышленных рабочих по отношению к земледельцам, или наоборот, в классе квалифицированных рабочих по отношению к неквалифицированным, или наоборот и т. д. До тех пор пока род человеческий будет несовершенным, всяческие конфликты на этой почве неизбежны, и потому даже по отношению к целым группам, классам, обществам необходимо твердо помнить известное правило: не на все то, в чем мы имеем интерес, мы имеем уже и право. Критерий права доминирует, таким образом, над критерием интереса и составляет такое понятие, без которого мы не можем ни мыслить, ни действовать.
Как бы мы ни определяли затем этот критерий права ближе, в чем бы мы ни усматривали основной принцип этого последнего, во всяком случае мы уже оказываемся в плоскости известного рода этических оценок, в плоскости суждений о должном. А в этой плоскости никакие материалистические концепции истории не могут иметь для нас обязательного значения: то, что было и что есть, принципиально не указ для того, что должно быть.
Ввиду всего сказанного, более тщательное отношение к праву, большее уважение к нему делается для всякого искренно мыслящего обязательным. Недовольство существующим правопорядком нисколько не оправдывает небрежения к праву вообще: если нынешние оценки правого и неправого ошибочны, то тем необходимее разработка и выяснение новых, верных. Как бы ни рисовался нам будущий желательный социальный строй, он прежде всего должен быть оправдан как строй правый и справедливый; без этого он будет ощущаться всеми, даже теми, для кого он выгоден, как голое насилие. Если дифференциация труда не исчезнет, то не исчезнет в обществе и известное деление на группы с особыми интересами каждой, и если мы не хотим, чтобы сожительство этих групп представляло из себя непрерывную междоусобную войну, мы должны регулировать их сотрудничество на известных справедливых, правовых основаниях. А для этого мы должны решить, что право и что неправо.
Но если, таким образом, для материалистического лагеря нашей интеллигенции делается необходимым проникнуться в известной степени идеализмом, то, наоборот, для другого, идеалистического, лагеря обязательно большее внимание к земному и относительному. А это непременно приведет его опять-таки ни к чему иному, как к тому же праву.
Конечно, право есть порядок внешний и условный, но это не значит, что оно есть нечто, по существу для человеческого общения ненужное. Нам незачем, полагаем, выступать с опровержением анархизма: это учение держится не силой своих аргументов, а силой возбуждаемого им настроения. Укажем только на то, что если бы даже все люди действительно руководились в своей жизни нравственными побуждениями, то и тогда для совместной жизни им нельзя было бы обойтись без известных внешних условных правил. Ведь нравственность, как известно, есть нечто такое, что держится только силой внутреннего, индивидуального убеждения: если я в силу всего своего миропонимания признаю известное поведение для себя обязательным, то я должен так поступить, хотя бы другие думали иначе; если бы я поступил так, как считают нужным другие, то я в угоду им отрекся бы от своего внутреннего нравственного завета, в угоду миру поклонился бы идолу. Вследствие этого нравственные требования могут быть весьма различны и непримиримы. Людям же как-никак нужно жить вместе, а для этого нужно создать такой условный порядок взаимных отношений, при котором каждой личности была бы гарантирована в одинаковой мере возможность ее физического и духовного существования, возможность нравственного совершенствования.
По этой причине неверно часто встречающееся (даже у юристов) утверждение, будто право само ведет к своему упразднению, будто в обществе людей нравственных, святых оно станет совершенно излишним: люди могут быть святыми, но каждый по-своему, а для их сожительства необходимо нечто общее.
Кроме того, если бы даже мы представили себе святых людей одной веры, людей, безгранично любящих друг друга одною любовью, то и тогда без известных, чисто внешних и условных, правил общежития им все же не обойтись, по крайней мере, до тех пор, пока они будут оставаться людьми и будут жить в обыкновенных условиях земного существования. Ведь всякое общежитие есть непременно сотрудничество, а всякое сотрудничество предполагает известное упорядоченное приложение сил и организацию. Пусть в каком-нибудь тесном обществе все члены его любят друг друга и готовы всячески помогать друг другу, но если им нужно сделать совместными усилиями какую-нибудь общую работу, им необходима упорядоченная организация труда, иначе самоотверженные, но несогласованные усилия всех израсходуются бесплодно. Если им нужно поднять бревно, то нужно, чтобы все взялись за него одновременно и чтобы кто-нибудь затем скомандовал «раз!» и т.д. Право дает такую необходимую организацию, и в этом качестве оно никогда не утратит своей необходимости для всякого человеческого общежития.
Наконец, если отрицательное отношение к праву питается взглядом, будто право непременно связано с насилием и непременно поддерживается им, то нужно просто проверить этот взгляд внимательнее, и тогда мы убедимся, что он неверен. Уже теперь есть немалое количество — и притом самых существенных — правовых норм, которые не снабжаются никакою карательной санкцией (напр., законы конституционные). В тех же случаях, когда такие кары за нарушение права устанавливаются, они с ростом культуры делаются все мягче и мягче, и можно действительно сказать, что правовое насилие ведет к своему собственному упразднению. Право стремится стать таким порядком, которому будут следовать не в силу боязни наказания, а просто в силу сознания его необходимости и разумности, подобно тому как это имеет место уже в нынешних тесных товарищеских или общественных кружках.
Таким образом, более внимательное размышление должно убедить наших идеалистов в том, что отрицание права или небрежение к нему отнюдь не вытекает из существа их идеалистического мировоззрения; оно объясняется, напротив, лишь их собственною недостаточною внимательностью к некоторым сторонам этого последнего. Когда же эта ошибка будет исправлена, они сами увидят, как много ценного и важного для правового устроения жизни они со своей точки зрения смогут сказать.
VI
Правовая и государственная организация создается, как известно, коллективною, соборною в широком смысле слова, психическою деятельностью народа. Есть народы, которым это созидание дается относительно легко и просто, — разумная самоорганизация как будто у них в крови; и есть народы, которым оно дается с большим трудом, путем тяжких и мучительных испытаний. Мы, русские, по-видимому, принадлежим к этому последнему типу. Сколько тяжелых и постыдных страниц вписали мы в свою историю исключительно благодаря нашему неумению разумно столковаться друг с другом, благодаря нашей роковой наклонности «раздираться на партии»! В настоящий момент мы вписываем, быть может, страницу самую постыдную.
Собственными руками своими мы растерзали на клочки наше государство и наш народ, растерзали не только на «самоопределившиеся» территориальные куски, но и на «самоопределяющиеся» социальные классы. Собственными руками своими мы разрушили нашу оборону — армию и флот, наш административный, производительный и транспортный аппарат и т. д., — словом, все, без чего в нынешних условиях не может жить ни один народ. Мы все разрушили, но, по-видимому, еще не насытились. Каждый день приносит все новые и новые конвульсии в этом направлении, и кажется, что мы остановимся только тогда, когда от русского народа будет перед нами только разорванный и охладевший труп.
Но этому не хочется верить. Не хочется верить, что-то, что мы сейчас переживаем, есть действительная смерть русского народа и русского государства, что это подлинный конец, могила.
В тоске оглядываешься кругом: где же спаситель? И какой-то голос подсказывает: он там, в том же русском народе, ныне столь яростно рвущем себя на клочки; он там — в его здравом инстинкте и здравом смысле, ныне столь затуманенном и извращенном налетевшими на него крикливыми лозунгами. Он там, ибо сам народ еще не сказал своего слова: за него пока говорили другие. Оторопев от внезапности и колоссальности совершившегося переворота, он пока молчал, ждал и думал, и тут-то налетели на него эти другие, перевернули его мысли, разбудили в нем зверя.
В то время как он всегда мечтал об устроении жизни по правде, по-божески, ему стали говорить о том, что вся правда и весь Бог заключается в блюдении своих материальных классовых интересов и что помимо этих интересов никакой правды, никакой справедливости нет.
В то время как он с большим трудом собирал себя в истории в единое великое целое, инстинктом чуя, что только при этом условии, он будет в состоянии развернуть все богатство своих духовных сил, ему стали внушать безграничное «самоопределение» частей, т. е. разрыв до самоуничтожения.
В то время как он жаждал мира вообще, ему стали усиленно внушать «войну в тылу», стали всеми мерами растравлять в его душе дух злобы, корысти и разрушения. Ему дали попробовать русской, братской крови... И вот, отравленный ею, он мечется в каком-то безумном отчаянии из стороны в сторону, от одного убийства или грабежа к другому, а они это нравственное отчаяние принимают за социализм!..
В то время как ему нужно было возможно скорее прийти в себя, опомниться и в здравом уме и твердой памяти приняться за приведение осколков государства в порядок, ему впрыскивали все новые и новые дозы яда: то отдельные лица, то целые категории их объявлялись «врагами народа» и «вне закона», что обозначало, конечно, прямо приглашение к новым убийствам и самосудам.
Кошмар пока растет и ширится, но неизбежно должен наступить поворот: народ, упорно, несмотря на самые неблагоприятные условия, на протяжении столетий, и притом, в сущности, только благодаря своему здравому смыслу, строивший свое государство, не может пропасть. Он, разумеется, очнется и снова столетиями начнет исправлять то, что было испорчено в столь немногие дни и месяцы. Народ скажет еще свое слово!
Но как будете жить дальше вы, духовные виновники всего этого беспримерного нравственного ужаса? Что будет слышаться вам отовсюду?
Когда вы будете думать об одурманенном и увлеченном вами в пропасть народе, не будете ли вы слышать роковые слова: горе тому, кто соблазнит единого от малых сих; лучше ему повесить себе камень на шею и броситься в пучину?
Когда вы будете вспоминать обо всей той крови, которая пролилась благодаря вашему духовному попустительству, когда вы будете вспоминать об этих массовых избиениях ваших же ближайших братьев-интеллигентов, не будете ли вы слышать вокруг себя: «Каин, Каин, что сделал ты с братом своим»?