Японская эмиграция: от революции Мэйдзи до Второй мировой войны (практический и эмоциональный контекст)
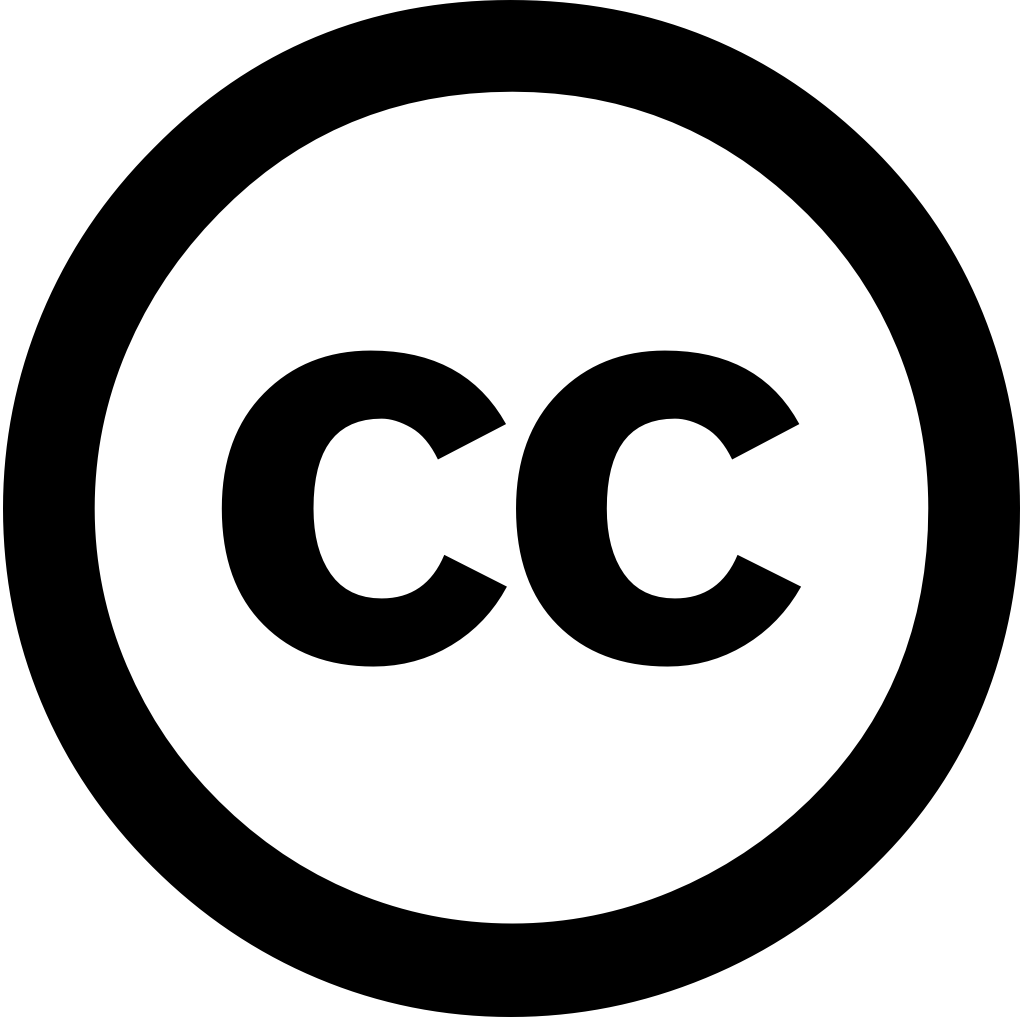

Опубликована Янв. 1, 2022
Последнее обновление статьи Фев. 2, 2023
Аннотация
В период Токугава население Японии стабилизировалось на уровне 31–32 млн человек. После революции Мэйдзи оно стало стремительно расти. Державно настроенные люди испытывали гордость и видели в умножении японцев знак того, что дела в стране идут как надо, однако у более реалистично мыслящих учѐных бурный рост населения вызывал отнюдь не восторг, а серьезную тревогу в связи с будущей нехваткой продовольствия и сопутствующих ей социальных взрывов. Для обоснования такого беспокойства обычно использовались алармистские идеи Мальтуса. Японские учѐные соглашались с ним, что бесконтрольное размножение таит в себе опасность, но возражали против добровольного ограничения рождаемости, поскольку оно «противоречит человеческим чувствам». В качестве меры решения проблемы перенаселѐнности они предлагали эмиграцию, которую сам Мальтус считал средством паллиативным. Японское государство поощряло эмиграцию как в японские колонии (Тайвань, Корея), так и в другие страны (прежде всего, в США и Латинскую Америку). Однако эта эмиграция не приобрела действительного массового характера и не смогла смягчить демографическое давление внутри Японии. Главной причиной стала эмоциональная привязанность японцев к своей малой родине, на что раньше не обращалось достаточного внимания. Однако сами поборники эмиграции выделяли именно этот фактор и считали его за недостаток в национальном характере. Несмотря на призывы правительства и сторонников эмиграции пожертвовать этой любовью ради блага всей страны и эмигрировать, преодолеть еѐ так и не удалось. Самая крупная компания по переселению в Маньчжурию также закончилась провалом. Планы тоталитарного государства и любовь японца к малой родине находились в антагонистических отношениях.
Ключевые слова
Демография, Япония, Мальтус, контроль над рождаемостью, эмиграция, перенаселѐнность, любовь к малой родине
В период Токугава население Японии стабилизировалось на уровне 31-32 миллиона человек. После революции Мэйдзи оно стало стремительно расти. Главная причина такого роста состояла в увеличении коэффициента брачности [Мещеряков 2021]. Динамика народонаселения (без учета колоний) выглядит следующим образом: 1872 г. - 34 млн 810 тыс. человек; 1882 - 37 млн 259 тыс.; 1892 - 40 млн 508 тыс.; 1902 - 44 млн 964 тыс.; 1912 - 50 млн 577 тыс.; 1920 - 55 млн 391 тыс. человек. Такой стремительный рост вызывал разные чувства. Державно настроенные люди испытывали национальную гордость и видели в умножении японцев знак того, что дела в стране идут как надо. Однако у более реалистично мыслящих учёных бурный рост населения вызывал отнюдь не восторг, а самую серьёзную тревогу в связи с будущей нехваткой продовольствия и сопутствующих ей социальных
взрывов. Для обоснования такого беспокойства обычно использовались алармистские идеи Мальтуса.
Уже в 1880-х гг. в Японии появляются связанные с этими идеями размышления и подсчёты будущего населения страны. Поскольку эти подсчёты были обычно основаны на вульгарных экстраполяциях (которыми грешил и сам Мальтус), авторы зачастую получали обескураживающие результаты, свидетельствующие о том, что нужно немедленно позаботиться о будущем. Однако и простое фиксирование текущей демографической ситуации вызывало озабоченность: отмечалось, что в 1890 г. в Австралии на одного человека приходится 666 акров земли, в Канаде - 475. В то же время в Европе есть и страны с высокой плотностью населения: Бельгия (1,3 акра на человека), Англия (2,2). В эту же категорию попадает и Япония - 2,3 акра. При этом население страны стремительно увеличивается, то есть площадь для обитания каждого японца уменьшается [Yoshida 1944, р. 165-166].
Как известно, Мальтус выдвинул две основополагающих идеи: без «отягчающих» обстоятельств (войны, голод, болезни, природные катастрофы и т.п.) население размножается в геометрической прогрессии, а количество доступного питания возможно увеличить только в арифметической прогрессии; для того, чтобы избежать перенаселённости и голода, есть только одно надёжное средство: добровольное воздержание от половой жизни до брака, позднее вступление в брачные отношения, отказ от брака по экономическим причинам.
Японские учёные, как правило, соглашались, что бесконтрольное размножение таит в себе опасность, но возражали против второго постулата. Так, экономист и демограф Тории Кэйта в 1890 г. во влиятельном «Токийском экономическом журнале» («Токё кэйдзай дзасси») решительно возражал против ограничения брачности на том основании, что это противоречит «человеческим чувствам». Данная точка зрения была господствующей. Таким образом, из учения Мальтуса выбрасывалась его важнейшая составляющая. В качестве «спасительной» меры против перенаселённости страны Тории Кэйта предлагал эмиграцию (Мальтус считал эмиграцию паллиативной мерой). Тории полагал: поскольку территория Японии мала, то при будущем неизбежном росте населения с такой же неизбежностью японцам придётся расселяться за пределами страны, и это вполне реалистично, поскольку мир велик. В качестве возможных мест для переселения Тории советовал Гавайи, Америку, Сиам и «другие страны тропического пояса». Однако, по мнению автора, существовали и факторы, которые препятствовали эмиграции. Прежде всего, это «любовь японца к своей малой родине». Хотя японцы энергичны, но их энергия остается втуне, поскольку у них нет средств для смены места жительства. В связи с этим Тории настаивал на правительственной помощи переселенцам [Yoshida 1944, р. 166-167].
Любовь к малой родине как фактор, препятствующий эмиграции
В качестве подходящего места для «переселения» Тории советовал не только зарубежные страны, но и Хоккайдо. В то время этот остров воспринимался почти как заграница. Японцы устойчиво и пренебрежительно квалифицировали его как «внешнюю территорию» (гайти) в противовес «внутренней (исконной) территории» (найти), то есть той земли, где исторически сформировалось японское государство.
Для освоения Хоккайдо было образовано специальное ведомство. Чтобы привлечь переселенцев, им предоставляли финансовую помощь и обширные земельные участки. Заселение Хоккайдо было важно с военной точки зрения - как форпост против возможного иностранного вторжения (прежде всего, России). Кроме того, считалось, что заселение острова будет способствовать ослаблению демографического давления в «исконной» Японии и позволит снизить уровень тамошней бедности.
Динамика заселения Хоккайдо выглядит следующим образом. В 1869 г. его население насчитывало 58 тыс. человек, в 1880 оно увеличилось до 219 тыс., в 1890 - до 427 тыс., а в 1900 г. составило 985 тыс. То есть на Хоккайдо, занимавшем 22% территории Японии, проживало всего около 2 % населения. Хотя сторонники миграции мыслили Хоккайдо в качестве земли, способной поглотить значительное количество «исконных» японцев и тем самым разгрузить «основную» территорию страны, в действительности эта затея имела весьма ограниченные результаты.
Одним из первых инициаторов активного заселения Хоккайдо выступил немецкий экономист и статистик Поль Мэйет (Paul Mayet), служивший университетским преподавателем и советником японского правительства в 1876-1893 гг. Он полагал, что миграция из перенаселённой «исконной Японии» легко позволит за 20 лет достичь плотности населения на Хоккайдо в 750 человек на один квадратный ри, то есть приблизительно 50 человек на квадратный километр [Yoshida 1944, р. 247]. Однако на деле такой показатель был достигнут только во второй половине XX в. В своих подсчётах опытный статистик исходил из чисто цифровых показателей - прежде всего, из высокой рождаемости в «исконной» Японии, которая будет «выталкивать» людей на пустующие территории. Кроме того, Мэйет имел в виду «объективную» желательность и «выгодность» миграции для государства и самих переселенцев, но он не учёл самой «малости», то есть человеческого фактора, державшего японца на малой родине.
Мнение о том, что излишняя привязанность японцев к своей родине с её могилами предков «мешает» эмиграции и «развитию» страны, было почти что безальтернативным. Как и полагалось в то время, ответственность за такой психологический склад возлагалась на «проклятый» сёгунат Токугава, который закрыл страну от внешнего мира. В 1893 г. было создано «Общество колонистов» («Сёкумин кёкай»), получавшее правительственное финансирование. В первом номере бюллетеня «Общества колонистов» утверждалось: «Из-за многолетней политики самоизоляции душа нашего народа сжалась... Она сжалась и закрылась от внешнего мира. Миссия колонистов состоит в том, чтобы пробудить активность по отношению к миру, развивать этот бодрый дух и привлекать новые знания, дабы изменить душу нашего народа» [Yoshida 1944, р. 195].
На оседлый характер японцев, который препятствует миграционной мобильности, обращали внимание и иностранные наблюдатели. Так, русский ботаник А.Н. Краснов (1862- 1914), путешествовавший по Японии в 1890-х гг., проницательно отмечал: «То, к чему мы приложили много труда, нам дорого. Поэтому дорого азиату [японцу — А.М.] то маленькое поле, на которое не только он, но и предки его затратили столько труда, поле, близ которого похоронены кости его предков, над которым вместе с богами-покровителями витают их души. Азиат никогда не бросит своего поля без крайней нужды. Лучше он усилит до последней степени его обработку, чем уйдёт на чужбину искать новой земли» [Краснов 1895, с. 413-414]. Как мы видим, А.Н. Краснов в качестве причины оседлости японца выдвигал не политический, а чисто психологический фактор. Однако японские мыслители делали основной акцент на причинах историко-политических.
Стратегически мыслящие «передовые» деятели периода Мэйдзи пытались убедить соотечественников, что ситуация с «душой народа» тяжела, но поправима. В 1894 г. вышла в свет статья видного историка Кумэ Кунитакэ (1839-1931) «Характер островитян». В ней утверждалось, что под гнетом сёгуната Токугава японцы из изначально склонных к мобильности и экспансии островитян превратились в жалких «горцев», сторонящихся моря. Если не исправить положения, то Японию ждёт судьба «варварских» островных государств Индийского и Тихого океанов - все они стали европейскими колониями. Однако, утверждал Кумэ, островное положение Японии не следует воспринимать с фатализмом. Ведь Великобритания тоже является островной страной, но при этом она сумела стать самой могущественной державой, её колоссальный флот осуществляет связи со всем миром. Следовательно, для Японии тоже нет ничего невозможного в том, чтобы превратиться в такую же мощную державу. В тогдашнем понимании «мощная держава» - это страна, обитатели которой сумели обзавестись колониями и расселиться по всему миру.
Иными словами, японцам предлагали ликвидировать свою вековую заторможенность и избавиться от комплекса оседлости. Наиболее ярые сторонники эмиграции заявляли: раз Япония занимает первое место в мире по плотности населения и темпам его роста (эти утверждения следует понимать метафорически - А.М.\ то она должна завоевать первое место и по количеству эмигрантов [Yoshida 1944, р. 197].
Путешественники и попытки преодоления «комплекса оседлости»
Мнение, что Японии не хватает земли, высказывалось тогда очень часто. Учёные констатировали серьёзность проблемы, а пассионарии путешествовали в поисках мест, куда бы могли переселиться японцы. В 1890 г. географ Сига Сигэтака (1863-1927) писал: в годовщины восшествия первоимператора Дзимму на трон (11 февраля) и его кончины (3 апреля) «мы должны церемониальным образом хотя бы ненамного увеличивать территорию Японской империи. В каждый из этих дней наши военно-морские суда должны добираться до какого-нибудь ничейного острова, занимать его и водружать там японский национальный флаг. Если не обнаружится такого острова, можно ограничиться скалами и камнями. Кто-то скажет, что это детская игра. Это не так. Этот план будет не только полезен нашему флоту с практической точки зрения, ибо позволит ему приобрести опыт, этот план возбудит в деморализованном японском народе дух открытий» [Nihonjin 1890, р. 20].
Однако места, где можно было бы водрузить флаг, не находилось. В 1891 г. один из ярчайших представителей «низового» национализма Миякэ Сэцурэй (1860-1945) отправился в шестимесячное путешествие. Он побывал на Гуаме, в Новой Британии, Австралии, Новой Каледонии, Новой Гвинее, на Филиппинах. Он искал хотя бы самый крошечный островок, у которого не было владельца - чтобы объявить его японским [Pyle 1969, р. 158-159]. Напрасно. Вся суша на планете была уже поделена.
В период Мэйдзи господствовало мнение, что при режиме Токугава японцы растеряли пионерский дух. Однако люди, входившие в политическую элиту, обладали совсем другой психологией и хотели превратить японцев в покорителей пространства. В истории страны отсутствовали великие путешественники, но сейчас японцев призывали восхищаться теми
соотечественниками, которые навёрстывали упущенное и хоть в какой-то степени напоминали первопроходцев.
29 июня 1893 г. в Японию прибыл Фукусима Ясумаса (1852-1919), который более года совершал одиночный конный пробег по маршруту Берлин - Москва - Семипалатинск - Улясутай - Урга - Иркутск - Владивосток - Пекин - Шанхай. Фукусима был офицером разведки, до своего путешествия он служил в японской миссии в Берлине. Жители Токио встретили его как выдающегося путешественника - за время странствий ему действительно пришлось много претерпеть, он преодолел 18 тыс. км и стал первым японцем, который отважился на столь длительное и опасное путешествие. Один из основателей японской компартии Катаяма Сэи (1859-1933) вспоминал: «Чтобы возвеличить поступок Фукусима, его поездку по Сибири описывали так: “Редко-редко заприметишь дымок человеческого жилья. Кругом стаями рыщут голодные волки, стужа невыносимая, негде остановиться на ночлег, негде раздобыть еду. Преодолевая все трудности, он в течение двух лет путешествовал один, не сходя с седла, и провёл обследование Сибири”» [Сэи Катаяма 1964, с. 233].
К числу национальных героев причислили и лейтенанта Сирасэ Нобу (1861-1946), который уже после выхода в отставку вместе со своими двумя товарищами в 1912 г. попытался достичь на собачьих упряжках уже покорённый к этому времени Южный Полюс. Экспедиция, организованная на средства доброхотов и на свои собственные сбережения, закончилась неудачей, поскольку ей удалось достичь лишь отметки в 80 градусов южной широты, но сам факт высадки первых японцев в Антарктиде вызвал в стране бурю восторгов, а министерство императорского Двора даже пригласило Сирасэ выступить перед семьёй государя.
Оба путешественника - Фукусима и Сирасэ - не случайно оказались людьми военными. Именно военные выступали в качестве образца для подражания в тогдашней Японии. И дело не только в охватившей страну милитаризации сознания. Военный человек хорош не только тем, что действует по приказу и вдобавок гордится этим, но ещё и тем, что его фигура является олицетворением мобильности, которой, по мнению идеологов, так не хватало рядовому японцу. Поскольку всё мужское население страны проходило через «почётную обязанность» - армейскую службу, армия выполняла не только свою прямую функцию по обороне (или, скорее, по нападению), но и отрывала молодого человека от его малой родины (деревни) и её «косных» обыкновений, делая юношу человеком более пригодным для государства, верящего в прогресс и сопутствующую ему мобильность.
Армия выполняла роль мощного инструмента по созданию новой идентичности - «человека мобильного». Сам император Мэйдзи, презрев вековые запреты, показывался на публике исключительно в военной форме и занимался конными прогулками, давая понять, что быстрое перемещение в пространстве - дело угодное Родине. Фукусима был действующим профессиональным разведчиком и жил по приказу, а вот Сирасэ действовал на свой страх и риск, он не получал материальной помощи от правительства, но всё равно вдохновлялся тем пионерским духом, которое оно пыталось внушить «народу». Он воплощал в себе идеал землепроходца, к которому должен стремиться «новый» японец.
Эмиграция и её результаты
Японцы охотно читали газеты и слушали публичные выступления путешественников, они восхищались покорителями просторов, но присоединиться к ним самим - дело совсем другое. Практика японской эмиграции подтверждает это.
В это время почти никто открыто не утверждал, что японцев чересчур много, упор делался на том, что у них слишком мало земли. Таким образом, подчёркивалась не столько многочисленность японцев, сколько малость территории, на которой им выпало жить. Меры по замедлению (ограничению) роста населения, на чём настаивал Мальтус, всерьёз не обсуждались не только по этическим причинам, но и потому, что в способности к размножению видели «силу» и жизнеспособность нации - силу, самоограничение которой шло бы вразрез с миссией Японии. Фигура Мальтуса пользовалась большим авторитетом, но японские мыслители оказались плохими мальтузианцами. Вместо ограничения рождаемости «по Мальтусу» мыслители и публицисты настаивали исключительно на «пространственном» способе решения проблемы перенаселённости: они предлагали соотечественникам либо «по- хорошему» переселяться в другие страны, либо создавать силовым образом колониальную империю, куда могли бы устремиться «лишние люди». Именно таким образом следовало приноравливаться к пугающему своим многолюдством будущему.
В обоих способах государству принадлежала колоссальная роль, хотя Мальтус апеллировал вовсе не к государству, а к сознательности отдельных личностей. Теория Мальтуса настаивала на добровольных самоограничениях в прокреативном поведении, японцы же интерпретировали Мальтуса как призыв к экспансии. Впрочем, идеалы Мальтуса оказались вообще трудны для воплощения - похожим на Японию образом они были «воплощены в жизнь» и на родине Мальтуса - в Англии, ставшей вовсе не страной с низкой рождаемостью, а самой мощной колониальной державой, отправившей в эмиграцию миллионы соотечественников. В смысле самоограничения репродуктивного поведения Япония «жила по Мальтусу» в эпоху Токугава, когда были широко распространены аборты и инфантицид, препятствующие росту населения [Мещеряков 2022] (правда, сам Мальтус эти меры отнюдь не поощрял). В период Токугава ни один японец не знал имени Мальтуса. Узнав это имя во второй половине XIX в. и вознеся учёного на пьедестал, японцы превратились по сути в антимальтузианцев. В стране, стремившейся к мировому величию, любая идея переосмысливалась в пользу её «державной» интерпретации.
Слово «колониализм» не обладало тогда отрицательными коннотациями в официальном дискурсе западного мира, стать колониальной державой означало для Японии войти в клуб «цивилизованных» стран и стать с ними на одну доску. Расширение собственной территории воспринималось как неизбежный этап борьбы народов за существование - закона эволюции и «прогресса», не подлежащего обсуждению с моральной точки зрения в силу его объективности. В любом случае решение проблемы внутренней демографической ситуации мыслилось за счёт использования внешнего ресурса. Отсюда с непреложностью следует вывод о колоссальном влиянии демографического фактора на всю внешнюю политику Японии.
В самом начале подготовки к грозному будущему речь шла о временных переселенцах в дальние страны, которые однозначно не предназначались для колонизации, но были
выгодны для зарабатывания валюты. Единогласно признавалось, что в Японии проживает множество бедняков, и правительство посчитало внешнюю трудовую миграцию инструментом для борьбы с нищетой. В этом деле примером служила другая бедная страна - Китай. На американском континенте трудилось немало китайцев-кули.
С 1885 г. правительство начало поощрять мигрантов, которых направляли прежде всего на Гавайи, хотя в качестве места назначения фигурировали и другие страны (главным образом, латиноамериканские - Перу, Бразилия, Мексика). Предполагалось, что японские сельскохозяйственные рабочие заработают за границей немалые деньги, которые они по возвращению на родину используют не только на прокорм своих семей, но и для подъёма экономики в целом. Иными словами, эта «эмиграция» была, скорее, разновидностью отходничества, чем средством для окончательного избавления страны от лишних ртов или же инструментом для освоения зарубежных территорий.
На Гавайских островах японские крестьяне трудились, в основном, на плантациях сахарного тростника и заводах по его переработке. Они направлялись на Гавайи по контракту, заключённому на определённый срок (обычно трёхлетний) с японским правительственным агентством (затем появились и частные посреднические фирмы). В основном это были мужчины. Приоритет поначалу отдавался тем людям, которым предстояло в полной мере продемонстрировать миру трудолюбие всего японского народа и улучшить его имидж за границей. То есть миграция имела не только экономические, но и идеологические задачи. Тогдашняя политика находилась под контролем выходцев с юго- запада страны (из бывших княжеств Сацума и Тёсю), оттуда же, в первую очередь, поначалу вербовались и трудовые мигранты, ибо руководство было уверено в их трудовых и моральных достоинствах.
Помимо доводов о прибыльности миграционного предприятия и его имиджевых приобретениях, высказывалось и такое идеологическое соображение: миграция-де поможет разрушить «феодальный» психотип - сращенного с землей предков японца, ибо такой психотип не соответствовал требованиям современности. Это «требование» заключалось в том, что интересы динамичного государства должны стоять выше «доморощенных» интересов - семейных и личных [Yoshida 1944, р. 168-169]. Иными словами, речь снова шла о формировании «нового» японца, не обременённого наследием «проклятого» феодального прошлого и готового покинуть землю предков.
После присоединения Гавайев к оплоту демократии - США (1898 г.) - многие японские трудовые мигранты стали перебираться в Калифорнию. В конце XIX - начале XX вв. в США ежегодно приезжало около 10 тыс. японцев. Поначалу их принимали хорошо, но трудолюбие, аккуратность, готовность работать за сравнительно низкую плату и сообразительность быстро сделали их серьёзными конкурентами местного населения, которое было недовольно «засильем» японцев. То есть трудолюбие японцев в глазах многих американцев сыграло не положительную, а отрицательную роль.
В 1924 г. США приняли иммиграционный закон (National Origin Act), согласно которому ежегодная квота на въезд японцев в США стала составлять «оскорбительные» 186 человек. Американский закон вызвал в Японии бурю протестов. Посол в Вашингтоне Ханихара Macao писал: «Для Японии это (Иммиграционный Акт - А.М.) является вопросом не выгоды, а принципа. Важно то, уважают Японию как нацию, считаются или не считаются с ней...» [Савельев 1997, с. 123]. В Японии началась компания по бойкоту американских товаров. Американский иммиграционный закон был направлен не только против японцев, но и против китайцев. И это тоже было прямым оскорблением чувства национального достоинства. Возникшие проблемы в двусторонних отношениях имели не столько материальные, сколько эмоциональные основания - и до принятия закона количество переселенцев в Америку было незначительным. Так, в 1924 г. в США отправилось чуть более 4 тыс. человек [Waga kuni 1927, р. 40].
После фактического прекращения эмиграции в США японское правительство стало особенно активно поощрять переселение в Южную Америку, однако в 1934 г. ограничительные меры ввела и Бразилия. «Золотой век» эмиграции закончился. Страны, которые раньше поощряли въезд иностранцев, теперь ограничивали их число: свободной земли на земном шаре оставалось всё меньше, японцы были слишком сильными конкурентами на рынке рабочей силы, великая экономическая депрессия ещё больше усугубляла ситуацию. Количество японских эмигрантов и до этого было не слишком значительным, но теперь на самой идее возможности решения демографических проблем за счёт мирных переселенцев в далёкие страны был поставлен жирный крест.
Что до силового расширения территории Японии, то первым шагом на этом пути стала аннексия Тайваня в результате японо-китайской войны 1894-1895 гг. Японская колониальная администрация действовала споро и эффективно, превратив Тайвань в сельскохозяйственный придаток метрополии. Этот остров стал играть заметную роль в обеспечении Японии рисом и, в особенности, сахаром. За время, когда Тайвань был японской колонией, производство риса выросло там в три раза, а сахара - в 24 [Тертицкий, Белогурова 2005, с. И].
Японское правительство пыталось организовать переселение японских крестьян на Тайвань, но результаты получились плачевными: с 1910 по 1916 г. туда переехало 754 двора, из которых 102 вернулось в Японию [Meiji, Taisho 1979, р. 89]. На тайваньских плантациях и полях трудились вовсе не японцы, а местные крестьяне. Большинство японцев на Тайване находились там временно. Это были чиновники, военные, полицейские, агрономы, инженеры, торговцы. Пробыв в колонии какое-то время, они возвращались на родину. Неудача с миграцией на Хоккайдо зачастую объяснялась тамошним непривычным для японцев холодным климатом, но о Тайване этого сказать было нельзя. Дело было не в температуре, а в психологии и темпераменте.
Похожая ситуация сложилась и в Корее. Она была аннексирована в 1910 г. Приобретение Кореи наполняло сердца радостью - теперь Япония стала «материковой державой». Однако те, кто рассчитывал на смягчение демографических проблем внутри самой Японии, оказались разочарованы. Если до аннексии в Корее находилось 146 тыс. японцев, то в 1925 г. их насчитывалось 425 тыс., что расценивалось официозом как совершенно недостаточное для приобщения к «настоящей» культуре почти 20 млн корейцев, которые к тому же демонстрировали быстрые темпы прироста [Chosen no jinko 1927, р. 105— 106]. Таким образом, мы можем констатировать неудачу государственной переселенческой политики. К тому же наблюдался и обратный процесс: корейцы переселялись в метрополию (в 1925 г. их насчитывалось там около 100 тыс.), так что влияние присоединения Кореи на численность населения в «исконной Японии» оказалось минимальным.
Среди разнонаправленных эмоций, которые испытывали японцы по отношению к загранице и эмиграции, любовь к малой родине оказалась самой сильной. Несмотря на
пропаганду и воодушевляющие примеры, дух пионеров и искателей приключений был японцам чужд, они не стремились искать счастья за морем, эмиграция не носила такого масштаба, который мог бы повлиять на демографическую ситуацию на «исконной» территории. В 1925 г. в Корее находилось 425 тыс. японцев, на Тайване - 184 тыс., на Южном Сахалине - 187 тыс., в Квантунской области, где проходила контролируемая японцами Южно-Маньчжурская железная дорога (ЮМЖД) и были расквартированы японские войска, - 187 тыс., на подмандатных территориях - менее 8 тыс. Таким образом, за пределами страны на тех территориях, которые Япония считала своими колониальными владениями, проживало 987 тыс. японцев. Значительная их часть находилась там временно. То же самое относится и к зарубежным странам, где находилось 596 тыс. японцев. Из них в Китае - 225 тыс., в США - 131, на Гавайях - 123, в Бразилии - 42 тыс. [Waga kuni 1927, р. 25-39]. Для поборников эмиграционного подхода к демографической проблеме это казалось совершенно недостаточным.
Дискуссия о перенаселённости Японии
Наиболее прозорливые учёные высказывали беспокойство по поводу бурного роста населения ещё в конце XIX в., но по-настоящему эта проблема была актуализирована уже в 1920-х гг. В 1918 г. по стране прокатились «рисовые бунты» - люди протестовали против повышения цен на рис. Непосредственной причиной такого повышения послужили массированные государственные закупки риса для армии, готовившейся к оккупации советского Дальнего Востока и Сибири. «Сибирская экспедиция» закончилась крахом, но повышение цен на рис спровоцировало дискуссию о том, может ли земля Японии прокормить такое количество людей.
Переписи показывают быстрый рост населения империи («исконная» Япония плюс колонии): 1920 г. - 76 млн 987 тыс. человек, 1925 - 83 млн 457 тыс., 1930 - 90 млн 396 тыс., 1935 - 97 млн 695 тыс. человек. Такой рост позволял с гордостью говорить о «стомиллионном народе великой японской империи». Япония занимала пятое место в мире по численности населения после Китая, Британской Индии, СССР и США [Попов 1936, с. 123-124]. Однако японские публицисты обычно сравнивали её население только с европейскими странами и США, и тогда Япония поднималась в мировом рейтинге ещё выше, что только усиливало чувство самоудовлетворения. В издании 1920 г. с гордостью подчёркивалось: по численности населения Япония занимает третье место среди мировых держав после США и России. Утверждалось, что заветное желание японского народа состоит в том, чтобы быстрый рост населения продолжался и в будущем [Jinko mondai 1920, р. 95, 100].
«Державники» дежурно радовались тому, что японский народ плодится с такой скоростью. Однако многие считали такой рост избыточным. Обычный ход мысли был таков: перенаселённость провоцирует обострение борьбы за существование, а это, в свою очередь, ведёт к «понижению уровня культуры» и «упадку» государства [Waga kuni 1928, р. 3]. Имелось в виду, что перенаселённость ведёт к ожесточению, конкуренции за ресурсы, обострению социальных конфликтов и потере управляемости страной.
Публикации экономистов и демографов дышали тревогой. Профессор Токийского императорского университета Янаихара Тадао (1893-1961) в первой же фразе своей книги,
посвящённой демографическим проблемам, в 1928 г. писал: «Естественный рост населения в нашей стране составляет почти миллион человек в год, что устрашающим и угнетающим образом воздействует на психику народа, так что дискуссии по демографическим вопросам пышут жаром» [Yanaihara Tadao 1928, р. 1]. Главным предметом беспокойства было продовольственное обеспечение.
Пожалуй, только японские марксисты не пугались того, что японцев становится чересчур много. В их понимании речь могла идти не об «абсолютной», а только об относительной перенаселённости, которую порождает капиталистический строй. Со свойственной коммунистическому стилю мышления размашистостью, Каваками Хадзимэ (1879-1946) отвергал такие полумеры, как развитие экспорта (чтобы на полученные доходы закупать недостающее стране продовольствие), повышение продуктивности сельского хозяйства, эмиграция, ограничение рождаемости (по его мнению, это ведёт к деградации нации). Был он решительно против и военной экспансии [Kawakami Hajime, 1927]. Коммунисты мечтали свергнуть капиталистический строй и императора, на меньшее они были не согласны. Только при ликвидации «эксплуататорского» строя, по их мнению, все проблемы, включая демографические, могут быть решены. Но коммунистические идеи не пользовалась широкой популярностью. На первых «всеобщих» выборах 1928 г. (право голоса получили только мужчины) «левые» получили 8 мест в парламенте. Общее же число парламентариев превышало четыре с половиной сотни. Но и этот «успех» напугал власть. Начиная с того же самого 1928 г. коммунистов стали массово арестовывать, многие из них каялись и отрекались от своих взглядов. Такая же судьба постигла и Каваками. В результате репрессий открыто пропагандировать марксистские идеи стало попросту некому.
Для ослабления демографического давления и решения продовольственной проблемы предлагались разные способы: повышение продуктивности сельского хозяйства, экспансия и сопутствующая ей эмиграция, сокращение рождаемости. Повышать эффективность труда крестьянина оказалось слишком долго и хлопотно, а снижение рождаемости и экспансия оказались на практике методами взаимоисключающими. Словом, Япония стояла на распутье. Выбор решения проблемы перенаселённости одновременно означал и выбор общеполитического курса, по которому пойдёт страна.
Позиция правительства по демографическому вопросу была двойственной. С одной стороны, рост населения вызывал глубокое удовлетворение, но, с другой, - обеспокоенность. На первом заседании правительственного комитета по проблемам демографии и продовольствия (20 июля 1927 г.) премьер-министр Танака Гиити (1864-1929) заявил: «За последние годы население нашей империи быстро росло, что символизирует процветание государства и вызывает радость. Рост населения не только свидетельствует о жизнеспособности нашего народа, но и составляет основу для сильной страны. Однако территория нашей страны мала и обделена природными ресурсами, а развитие промышленности ещё недостаточно, так что из-за высокой плотности населения потребление продуктов питания растёт быстрыми темпами, то и дело возникает дисбаланс в спросе и предложении рабочей силы, что вносит нестабильность в жизнь народа» [Fujino Yutaka 1998, р. 121-122].
По современным меркам, зависимость Японии от иностранного продовольствия была не так велика (по рису она составляла 15 %). Однако политики и публицисты били тревогу: Япония, которую в глубокой древности с гордостью именовали «страной богатых урожаев» или же «страной обильных тростниковых равнин и удивительных колосьев риса», превратилась ныне в импортёра риса. Подчёркивалось, что весь прирост населения обеспечивается теми продуктами, которые выращены в колониях (Корее и Тайване) и за границей [Yanaihara Tadao 1928, р. 143-145]. Это было крайне неприятно с точки зрения самоидентификации японцев, для которых «рис» и «Япония» стояли в одном синонимическом ряду. Половину пищевых калорий приносил японцу именно рис. Его потребление в расчёте на одну японскую душу росло, но это происходило за счёт «чужого» риса. Очень хотелось, чтобы весь он был «родным».
Помимо ностальгии по тем временам, когда «родного» риса имелось (или якобы имелось) в изобилии, огромную роль играли и геополитические соображения относительно самообеспеченности продовольствием. Чем дальше, тем больше Япония ощущала себя страной, окружённой врагами. При этом никто не собирался нападать на неё. Все войны, которая она вела до этого, начинала сама Япония. Поскольку она их выигрывала, это приводило к усилению политического влияния военных, которые видели решение любых внутренних проблем за счёт силового воздействия на другие страны. То есть они собирались воевать и в самом ближайшем будущем. Поэтому полное продовольственное самообеспечение представлялось им чрезвычайно прельстительной задачей, но её выполнение было близко к невозможному - винтовка и вправду может рождать власть, но богатые урожаи случаются только в мирные годы.
Принятые в Японии технологии уже не позволяли повышать урожайность сколько-то существенно. Производство продуктов питания теоретически могло бы быть увеличено за счёт расширения сельскохозяйственных угодий. По плотности населения Япония уступала некоторым европейским странам - Бельгии, Голландии, Англии. Однако при расчёте плотности населения не на всю территорию страны, а только на пашню, она уверенно лидировала: 9,69 человека на гектар земли (в Англии - 2,26, в Германии - 1,85, во Франции - 1,08) [Kiyomizu Shizubumi 1929, р. 24-25]. Разумеется, прокормиться почти десяти человекам с такого «поля» было невозможно. В западных странах была отдана под сельскохозяйственные угодья намного большая доля территории, чем в Японии. Во Франции она составляла 42 %, в Германии - 44 %, в Англии - 25 %, а в «исконной» Японии - только 16% [Waga kuni 1928, р. 5-6 ]. В стране существовали земли, которые теоретически могли быть освоены под пашню, но они были низкого качества и располагались в менее пригодных для полеводства (особенно для выращивания риса) районах - например, в Тохоку, на Хоккайдо или Южном Сахалине. Освоение этих земель требовало больших капиталовложений. У крестьян такие средства отсутствовали, частные капиталы вкладывались преимущественно в промышленность с её более высокой нормой прибыли. Правительство выделяло средства на освоение Хоккайдо, но их не могло быть хоть сколько- то достаточно, учитывая возрастающие расходы на армию: в 1931 г. их доля в бюджете превысила 30%, в 1934 г. они составили 44%, а в 1937 г. - почти 70%, что делало невозможным осуществление любых крупномасштабных мирных программ. В результате прирост населения опережал прирост посевных площадей.
Обеспокоенность перенаселённостью ощущалась не только в правительстве, но и в обществе. В арсенале правительства значились эмиграция и расширение сферы обитания, в обществе же зарождается «низовое» движение за ограничение рождаемости. Хотя правительство не проводило политику, направленную на повышение рождаемости, оно с
большой подозрительностью относилось к призывам по её ограничению: публикации, ратующие за планирование семьи, подвергались цензуре, лекции поборников легализации абортов и контроля над рождаемостью отменялись. Так произошло, в частности, с приехавшей в Японию в 1922 г. американкой Маргарет Сэнгер (Sanger, 1883-1966) - известной активистской движения за контролируемую рождаемость, которая и ввела в оборот этот термин (birth control). У матери Маргарет было 11 детей, у неё самой - только двое сыновей (дочь умерла в младенчестве). За её феминистские и «античеловеческие» выступления в США Сэнгер преследовали, не раз арестовывали.
В токугавской Японии аборты и инфантицид были широко распространены, но под влиянием западной (христианской в своей основе) морали правительство боролось с ними и достигло в этом деле больших успехов. Отказываться от них не хотелось. В тогдашнем западном мире аборты были запрещены практически повсеместно. В Японии они тоже находились под запретом. Когда в 1920 г. их разрешили в Советской России, это вызвало восторг у многих «прогрессивных» западных интеллектуалов и ужас у обывателей, которые получили ещё одно доказательство «бесчеловечности» коммунистов. Тем не менее, противозачаточные средства (главным образом, барьерные) находили всё более широкое распространение на Западе. Но японская власть относилась к ним крайне подозрительно. Идея Сэнгер «лучше меньше детей, но лучшего качества» подвергалась жёсткой критике на том основании, что рождённый японцем не может быть дурного «качества» по определению. Что до противозачаточных средств, то в связи с неблагополучной экономической ситуацией конца 1920-х гг. они всё-таки начали получать распространение. Однако социологические опросы показали, что в 1930-х гг. только менее 10 % супружеских пар использовали контрацептивы [Drixler 2013, р. 118].
В 1926 г. «толстый» журнал «Тайё» провёл опрос заметных публичных фигур по вопросу о том, одобряют ли они ограничение рождаемости в тех семьях, которые испытывают материальные затруднения. Большинство ответило утвердительно, что свидетельствует не только о низком уровне жизни в тогдашней Японии, но и о том, что среди интеллигенции идея планирования семьи находила определённое понимание. Однако в правящих кругах всё большее влияние получали люди в погонах, которым требовались всё большие человеческие ресурсы для осуществления экспансионистской политики. Недаром активный член пролетарского движения Аогаки Дзэнъитиро (1887-1975) утверждал, что ограничение рождаемости имеет антимилитаристскую составляющую [Fujino Yutaka 1998, р. 116-117, 121]. Среди сторонников ограничения рождаемости было вообще много «левых», на которых обрушились репрессии. Следуя вдохновляющему примеру нацистской Германии, общественное движение по контролю над рождаемостью и планированию семьи распустили в 1935 г., публикации по этой тематике запретили двумя годами позже. Символично, что сам журнал «Тайё» прекратил существование ещё в 1928 г.
Переселение в Маньчжоуго
Многолетний опыт эмиграции демонстрировал, что японцы по-прежнему покидают место своего жительства с большой неохотой. Ярый поборник переселения японцев за границу экономист Киёмидзу Сидзубуми с нескрываемой обидой указывал в 1929 г.: Италия, как и Япония, тоже испытывает серьёзное демографическое давление, и 5 млн 600 тыс.
итальянцев охотно переселились за рубеж, японцев же за пределами архипелага насчитывается всего 600 тыс. (данные по числу находящихся за пределами страны японцев могут различаться ввиду разных критериев их подсчёта - А.М.). Это происходит прежде всего потому, что японский народ «не любит» жить за границей, поэтому следует взращивать в нём охоту к перемене мест [Kiyomizu Shizubumi 1929, р. 248]. Другой влиятельный экономист с завистью отмечал: если бы из Японии ежегодно уезжало 2 % населения, как это происходило в Италии, то это равнялось бы 1 млн 100 тыс. мигрантов! [Takahashi Kameyoshi 1928, р. 486].
Исии Итаро (1887-1954), глава отдела эмиграции Министерства иностранных дел, заявлял: «Один из недостатков японцев состоит в том, что они ищут быстрого успеха. Эта черта обнаружила свою предельную пагубность в деле экспансии японцев заграницу... Если ты уезжаешь заграницу, ты должен приготовиться жить и умереть там. Будь терпелив, не спеши, старайся неспешно заложить экономическую основу своей жизни - только в этом случае японская эмиграция может быть успешной» [Akira 1974, р. 255]. Но сами японцы плохо поддавались на уговоры.
Немногочисленные «левые» и либералы выступали за контроль над рождаемостью. «Правые» ратовали за расширение территории страны. В пользовавшемся значительной популярностью памфлете Нисино Юдзи «Следующая дальневосточная война: куда должна отправиться императорская армия» (1930) утверждалось: если японцы не станут одушевляться освоением заграничных территорий, их неминуемо ожидает подъём классовой борьбы, людоедство и самоуничтожение.
Сознание того, что земля Японии слишком мала и бедна для многочисленных японцев, владело умами. Все предыдущие планы по переселению японцев заграницу закончились с ограниченными результатами, теперь взоры обращались в сторону китайской Маньчжурии. Разговоры о том, что Маньчжурия является наиболее подходящим местом для массового переезда туда японцев, велись давно. Ещё в 1906 г. теоретик и практик японского колониализма Гото Симпэй (1857-1929) призвал 500 тыс. японцев переехать в Маньчжурию. Японцы проигнорировали этот призыв. Однако правительство не сдавалось, и в 1910 г. министр иностранных дел Комура Дзютаро (1855-1911) пошёл ещё дальше, заявив: в следующие 20 лет миллиону японцев следует обосноваться там. Однако эти разговоры оставались лишь благопожеланиями.
В 1930 г. на постоянном жительстве в Маньчжурии находилась всего тысяча японцев. Теперь призывы было решено подкрепить более решительными действиями. В 1931 г. японская армия продемонстрировала примерную мобильность и вторглась в Маньчжурию. В 1932 г. там было образовано «независимое» государство Маньчжоуго, которое находилось под полным контролем Японии. По сути, это была новая японская колония. Такая ситуация воспринималась в стране «с пониманием», поскольку на этой территории в древности располагались государства Когурё и Б охай, которые Япония считала своими данниками. Так что речь шла «всего лишь» о восстановлении исторической справедливости. Из событий недавней истории легко вспоминалась война с Россией, многие сражения которой происходили на маньчжурской территории. Там погибло немало японцев, а земля, обагрённая кровью соотечественников, становилась эмоционально ближе, воспринималась как «своя». «Разве жертвы наших предков были напрасны?» - задавали сами себе японцы риторический вопрос.
Важнейший этап экспансионистской миграционной политики был связан именно с Маньчжоуго. Это был новый шаг в деле решения внутренних демографических проблем за счёт внешнего фактора. Все прежние попытки такого рода заканчивались неудачей: японскую эмиграцию было трудно уподобить «потоку», она скорее напоминала «ручеёк». Кроме того, прежняя миграция в другие страны часто заканчивалась возвращением на родину. Однако теперь правительство твёрдо решило сделать так, чтобы японцы уезжали в Маньчжоуго навечно. Предполагалось, что освоение японскими колонистами маньчжурских просторов не только обеспечит доступ к новым природным и пищевым ресурсам, но и избавит территорию исконной Японии от лишних ртов. Плотность населения в Маньчжоуго составляла около 30 человек на кв. км, а в «исконной» Японии - 190.
Экономист Киёмидзу Сидзубуми предупреждал в 1929 г.: «Поскольку японцы длительное время проживали в островной стране, ... у них развился специфический душевный строй; в особенности это касается любви к малой родине и нежелания покидать землю, где похоронены предки. Даже в условиях перенаселённости они скорее готовы умереть на месте, чем уехать навсегда...» [Kiyomizu Shizubumi 1929, р. 277]. Однако правительство считало, что оно лучше знает душу японца. Верило оно и во всесилие пропаганды.
Широкомасштабная государственная программа по переселению одного миллиона крестьянских дворов (5 млн человек) в Маньчжоуго начала осуществляться в 1936 г. Она была рассчитана на 20 лет. Важно отметить, что планировалось переселение не просто японцев, а японцев семейных. То есть эта акция предполагала не отходничество, а прочное укоренение на маньчжурской земле. Предполагалось, что основу колонистов составят крестьяне. Им предоставляли участки таких размеров, о которых они и не могли мечтать на родине. Несмотря на непривычный климат и отсутствие инфраструктуры, пропагандисты называли Маньчжурию «переселенческим раем». Площадь этого «рая» составляла 1 300 000 кв. км, а площадь всей остальной Японии вместе с колониями - 680 000. Однако и эта переселенческая затея по большому счёту не удалась - к концу Второй мировой войны в Маньчжурию переехало только 270 тыс. человек. Правление Токугава стреножило японца крепкими путами и не пускало его за море. Нынешние власти всеми силами пытались оторвать японца от родной земли, но даже привыкшие повиноваться правительству японцы на призывы покинуть землю предков реагировали вяло.
Заключение
Формировавшийся столетиями тип оседлого японца плохо поддавался уговорам на перемещения в пространстве. В отличие от царской России и СССР, где главные усилия государства были направлены на то, чтобы прикрепить крестьянина к определённому месту, японское пост-мэйдзийское государство пыталось «раскачать» и «растормошить» японцев, открепить их от места постоянного (векового!) проживания и превратить из интровертов в экстравертов. Время было неустойчивое и взбалмошное, японец получал от государства разнонаправленные сигналы. Школа воспитывала приверженность не только к «большой» (императорской) Японии, но и любовь к родине малой. В конце 1920-х гг. краеведение получило официальное признание, стало составной частью идеологии. В 1929 г. краеведческое движение оформилось в Ассоциацию, которую поддерживало министерство образования, считавшее, что любовь к малой родине есть важнейшее звено имперского патриотизма. В 1931 г. предмет «краеведение» был включён в школьную программу. Но взрослому человеку внушали, что эмиграция из любимой деревни, города и страны представляет собой разновидность патриотизма. Однако экспансионистские устремления государства входили в драматическое противоречие с «национальным характером»: несмотря на призывы к переселению, японцы в своём большинстве предпочитали жить и умирать на родине.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
- Краснов А.Н. По островам далекого Востока. Санкт-Петербург: редакция «Недели». 1895.
- Мещеряков А.Н. Демографический взрыв в Японии периода Мэйдзи // Японские исследования. 2021. № 1. С. 80-100. DOI: 10.24412/2500-2872-2021-1-80-100
- Мещеряков А.Н. Планирование семьи и инфантицид в Японии периода Токугава // Вопросы философии. 2022. № 1. (В печати).
- Попов Константин. Экономика Японии. Москва: Соцэкгиз. 1936.
- Савельев И.Р. Японцы за океаном. История японской эмиграции в северную и южную Америку. Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение. 1997.
- С эн Катаяма. Воспоминания. Москва: Наука. 1964.
- Тертицкий К.М., Белогурова А.Э. Тайваньское коммунистическое движение и Коминтерн. Москва: Восток-Запад. 2005.
* * *
- Akira, Iriye (1974). The Failure of Economic Expansionism: 1918-1931. In B.S. Silberman and H.D. Harootunian (Eds.), Japan in Crisis. Essays on Taisho Democracy. Princeton University Press.
- Chosen no jinko gensho [Modern Demographic Situation in Korea], (1927). Keijo: Chosen insatsu kabushiki kaisha. (In Japanese).
- Drixler, F. (2013). Mabiki: Infanticide and Population Growth in Eastern Japan, 1660 1950. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Fujino, Y. (1998). Nihon fashizumu to yusei shiso [Japanese Fascism and Eugenics], Tokyo: Kamogawa shuppan. (In Japanese).
- Jinko mondai [Problems of Population], (1920). Tokyo: Tokasha. (In Japanese).
- Kawakami, Hajime (1927). Jinko mondai hihan [Criticism of Demographic Problems], Tokyo: Sobungaku. (In Japanese).
- Kiyomizu, Shizubumi. Jinko mondai no kenkyu [Research on Demographic Problems], Tokyo: Bunkeisha. (In Japanese).
- Meiji, Taisho zushi. Kaigai. (Commented Illustrations of the Meiji and Taisho Periods. Abroad). (1979). Tokyo: Chikuma Shobo. (In Japanese).
- Nihonjin. (1890). No 40. (In Japanese).
- Pyle, K.B. (1969). The New Generation in Meiji Japan. Problems of Cultural Identity 1885- 1895. Stanford University Press, pp. 158-159.
- Takahashi, Kameyoshi (1928). Nihon shihonshugi hattatsu shi [History of the Development of Japanese Capitalism], Tokyo: Nihon Hyoronsha. (In Japanese).
- Waga kuni jinko mondai to mammo [Demographic Problems of Our Country in Relation to Manchuria and Inner Mongolia], (1927). Dairen: Minami manshu tetsudo kabushiki kaisha. (In Japanese).
- Yanaihara, Tadao (1928). Jinko mondai [Demographic Problems], Tokyo: Iwanami. (In Japanese).
- Yoshida, Hideo. (1944). Nihon jinkoron no shiteki kenkyu [Historical Study of Theories on Japanese Demography], Tokyo: Kawade Shobo. (In Japanese).





