Международное регулирование отношений в сфере биомедицины: взаимодействие права и морали
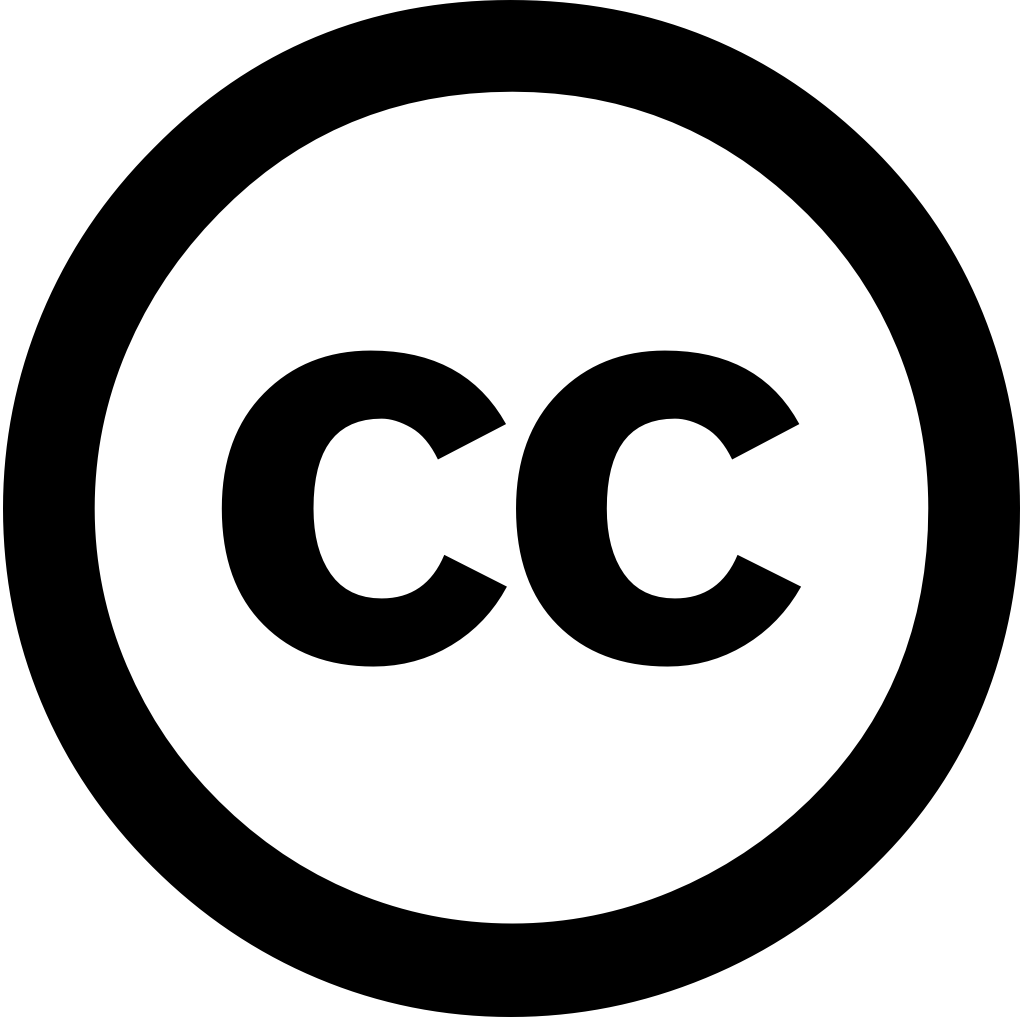

Опубликована Апрель 1, 2019
Последнее обновление статьи Июнь 14, 2023
Аннотация
На международном уровне отношения в области биомедицины регламентируются обширным комплексом документов, положения которых в подавляющем большинстве содержат принципы и правила биоэтики, которые не носят юридически обязательного характера. Перевод этих этических норм на уровень национального законодательства требует их надлежащей юридизации, эталоном которой должны служить международные нормативно-правовые акты, прежде всего Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины. Анализ показывает, что из всех принципов биоэтики лишь принцип «делай благо», закрепленный в ст. 2 Конвенции (согласно которой «интересы и благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки»), не получил адекватной юридической интерпретации. Юридическая некорректность данной статьи, речь в которой идет не о правах человека, а о его интересах и благе, является одним из факторов, препятствующих подписанию Конвенции. Вместе с тем в ней нашла выражение интенция не только на обеспечение прав испытуемых в ходе биомедицинских исследований, но также и на защиту интересов человека, которые могут пострадать от дегуманизирующего воздействия биотехнологий. Пока регулятивный потенциал Конвенции, нацеленный на благо грядущих поколений, не получил должного развития. Поиск гарантий от негативного воздействия биотехнологий на развитие человечества как биологического вида и социальной общности идет в плоскости общественной морали, корпоративной морали медико-биологического сообщества и индивидуальной морали исследователей. Последняя является на данный момент главной (хотя ненадежной) защитой от неконтролируемого развития биотехнологий. В этой ситуации важным направлением поиска баланса правовых и моральных регуляторов при создании и применении биотехнологий могли бы стать гарантии прав исследователей на обнародование опасений в связи с вредом, который могут заключать в себе данные технологии.
Ключевые слова
Право, международное регулирование, биомедицинские исследования, Конвенция по биоэтике, биотехнологии, мораль, принципы биоэтики, тип правопонимания
Введение
Проблема оптимального баланса правовых и моральных регуляторов в последнее время становится все более актуальной в сферах общественных отношений, находящихся на передовом рубеже современных научно-технологических процессов. Ядро этих процессов составляют НБИК-технологии (нано-, био-, информационные и когнитивные технологии), стремительное развитие которых настоятельно диктует необходимость их адекватного социогуманитарного сопровождения в системе уже НБИКС-технологий, включающих в себя социогуманитарную составляющую. Подобное социо-гуманитарное сопровождение научно-технологического процесса обычно обозначают термином «экспертиза». Между тем это не совсем верно, во всяком случае, применительно к такой институционально развитой сфере, как биоэтические технологии, которые по своему содержанию могут быть отнесены не только к экспертной, но и к контрольной деятельности.
Формирование надлежащего социогуманитарного сопровождения научно-технологического развития открывает огромное и крайне актуальное по свое значимости пространство междисциплинарного взаимодействия между юриспруденцией и философией, прежде всего в сфере поиска баланса между правом и моралью. Правда, постановка данной проблемы, предполагающая разграничение этих социальных феноменов, идет вразрез с подходом, доминирующим в области биоэтики — уникальной сферы деятельности, связанной как с формированием этических регуляторов биомедицинской науки и практики, так и с регулированием посредством деятельности этических комитетов. Между тем смешение разных по своей природе соционормативных регуляторов чревато ослаблением их регулятивного потенциала. Для усиления этого потенциала необходимо, напротив, правильно определить те сферы отношений, которые могут и должны быть регламентированы правом, и те сферы, где правовые нормы должны уступить место нормам общественной и индивидуальной морали. В области биомедицины данная проблема наиболее актуальна в плоскости отношений: между исследователями и участниками биомедицинских исследований (пациентами и испытуемыми) и между наукой (в лице исследователей, стоящих за ними исследовательских организаций, спонсоров, этических комитетов, медицинских общественных объединений, соответствующих государственных органов и т.д.) и обществом по поводу предотвращения угроз, которыми чревато применение результатов биомедицинских исследований для человечества. Это две разные сферы общественных отношений, применительно к которым проблема поиска баланса правовых и моральных регуляторов должна решаться по-разному.
1. Отношения между исследователями и участниками биомедицинского исследования
Указанные отношения регламентируются обширным комплексом норм международного уровня, получивших закрепление в документах ЮНЕСКО, Всемирной медицинской ассоциации, Всемирной организации здравоохранения, Совета международных научно-медицинских организаций, Совета Европы, Европейского союза, Комитета по этическим, правовым и социальным вопросам Организации «Геном человека» и т.д. В своем подавляющем большинстве это разного рода декларации, рекомендации, профессиональные кодексы и т.п., положения которых с формальной точки зрения не носят обязательного характера. Однако, по сути, подобные документы содержат нормы «мягкого права», обладающие большим регулятивным потенциалом: их положения, как правило, закрепляются затем в законодательстве государств-членов соответствующих организаций. Особенность международного «мягкого права» в области биомедицинских исследований заключается в том, что провозглашаемые им принципы и правила исторически сложились на базе медицинской деонтологии в качестве этических принципов и правил взаимодействия врача и пациента. Перевод этих этических норм на уровень национального законодательства требует их юридической интерпретации и конкретизации. Очевидно, эталоном подобной юридизации должны служить международные нормативно-правовые акты, регламентирующие рассматриваемую сферу отношений.
В этой сфере на данный момент действует лишь один специальный международно-правовой акт регионального уровня — Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины (1997) (далее — Конвенция по биоэтике), участниками которой, согласно ст. 1, являются «государства-члены Совета Европы, прочие Государства и Европейское сообщество, подписавшие настоящую Конвенцию»1. Нормы Конвенции охватывают не только ситуации медицинского вмешательства, связанные с применением достижений биомедицины, но и отношения в связи с получением этих достижений в процессе медицинских и биомедицинских научных исследований: в Конвенции есть специальная глава «Научные исследования». Основное содержание данной главы посвящено гарантиям того, что исследования на людях проводятся только при отсутствии альтернативных методов исследования, сопоставимых по их эффективности; риск, которому может быть подвергнут испытуемый, не превышает потенциальной выгоды от результатов исследования; проект исследования был утвержден компетентным органом после независимой научной экспертизы; испытуемые явно выразили информированное письменное согласие, которое может быть беспрепятственно отозвано в любой момент. Эти положения Конвенции получили существенное развитие в Дополнительном протоколе о биомедицинских исследованиях от 26 января 2005 г., где помимо нормативных гарантий прав участников исследования введены и институциональные гарантии, связанные с деятельностью этических комитетов как органов, осуществляющих независимую экспертизу этической приемлемости биомедицинских исследований.
При этом в части применения достижений биомедицины Конвенция (как это следует из ее названия, Преамбулы и содержания некоторых норм) распространяется не только на действующую медицинскую практику, но и на все потенциально возможные ситуации «предосудительного использования биологии и медицины», чреватые опасностью для «блага нынешнего и грядущих поколений»2. В этом смысле Конвенция претендует, хотя и в самой общей форме, на защиту прав будущих поколений и таким образом выходит далеко за рамки иных международных документов в данной сфере, которые сфокусированы на этических проблемах современной медицинской практики и медико-биологических исследований. Однако основное нормативное содержание Конвенции связано с защитой прав участников исследований, выступающих в роли испытуемых.
Такой преимущественный акцент на защите прав испытуемых в значительной мере обусловлен тем, что биомедицинские исследования проводятся а на человеке как носителе определенных телесных и психических характеристик, составляющих объект таких исследований. Поскольку указанные характеристики неотделимы от личности, то возникает большая опасность превращения испытуемого в объект исследования, т.е. в средство достижения целей исследователя, заказчиков исследования, спонсоров и иных бенефициаров данного исследования. Преодоление этой опасности международное сообщество связывает с утверждением фундаментального этического принципа человеческого общежития, которое получило выражение в формуле кантовского категорического императива, требующего всегда относиться к человеку как к цели и никогда не относиться к нему только как к средству. Другая кантовская идея, предопределившая идеологию современной биоэтики, — это идея моральной автономии личности, квинтэссенция которой содержится в известном римском выражении «Sapere aude» (лат. «дерзай знать»). Лозунг «Sapere aude», который Кант перевел фразой «мужество пользоваться собственным умом» [Кант И., 1967: 27], биоэтика рассматривает в качестве своего рода кредо пациента-испытуемого, выражающего отказ от традиционной патерналистской модели отношений между врачом и пациентом. В этой принципиально новой парадигме пациент-испытуемый становится равноправным участником (партнером) врача-исследователя, что придает их отношениям договорный, т.е. правовой по сути характер.
Сильным импульсом к формированию правовой модели взаимодействия врача-исследователя и пациента-испытуемого стал шок, полученный мировым сообществом при осознании вопиющих нарушений прав человека в медицинских экспериментах [Тищенко П.Д., 2006: 21-22]. Осмысление этого впоследствии способствовало формированию биоэтики — уникальной сферы научно-практической деятельности, связанной как с формированием этических регуляторов для биомедицинской науки и практики3, так и с осуществлением регуляции посредством деятельности этических комитетов4, ориентированной, в конечном итоге, на очерчивание «границ допустимого манипулирования жизнью и смертью человека» [Силуянова И.В., 2001:14].
Наиболее полную правовую конкретизацию биоэтическая идеология получила в Конвенции по биоэтике, в которой нашел отражение весь современный биоэтический кодекс с его принципами «делай благо», «не навреди», автономии личности и справедливости и правилами правдивости, конфиденциальности и информированного согласия [Тищенко П.Д., Юдин Б.Г., 1998: 15-19]. Значение этого пока единственного международного нормативно-правового акта определяется острой необходимостью гармонизации (а в перспективе — унификации) законодательства разных стран в области биомедицинских исследований. В условиях крайне неравномерного и высоко конкурентного научно-технологического развития современных государств гармонизация законодательства, регламентирующего отношения в об ласти биомедицинских исследований, является условием обеспечения универсальных правовых гарантий достоинства человека, значение которых существенно усиливается опасностью превращения отдельных стран в биомедицинские полигоны. Кроме того, отсутствие общепринятого подхода к гарантиям прав человека как участника биомедицинских исследований создает конкурентные преимущества странам, где исследователи не связаны в должной мере этическими ограничениями. Все это обусловливает актуальность правового анализа положений Конвенции, направленного на поиск возможностей повышения ее регулятивного потенциала. С учетом того, что ключевые положения Конвенции представляют собой итог юридической конкретизации принципов и правил биоэтики, особое значение приобретает философско-правовое осмысление ее нормативного содержания.
Методология подобного анализа в существенной степени предопределяется типом правопонимания, лежащим в его основе. С точки зрения проблемы соотношения права и морали (а это по сути главный философско-правовой критерий классификации типов правопонимания), можно выделить три конкурирующих подхода: юридико-позитивистский (разграничивающий нормы права и морали по основанию их легализации в действующем законодательстве), естественно-правовой (отождествляющий эти феномены5) и либертарно-юридический (трактующий право в качестве социального явления, обладающего собственным сущностным признаком, отличающим его и от властного произвола в форме закона, и от норм общественной морали) [Нерсесянц В.С., 2002: 3-15].
Для юридического позитивизма биоэтика — сфера деятельности, связанная с выработкой моральных регуляторов, которая при необходимости может быть частично преобразована в так называемое биоправо в результате «возведения в закон принципов и практики биоэтики и наделения их законодательными санкциями»6. Хотя обновленный юридический позитивизм имеет устойчивые позиции в мировой правовой науке и практике, его положение в сфере биомедицины остается подорванным тем, что в свое время этот подход был теоретической опорой тоталитарного насилия, особенно проявившегося в медицинских экспериментах над людьми. В настоящее время философско-правовую основу биоэтики, как правило, составляют светские (реже — религиозные) версии юснатурализма, в которых биоэтические морально-правовые принципы и нормы рассматриваются как единый регулятивный комплекс. В пользу юснатурализма сейчас «работает» нарастающая опасность технологической дегуманизации, затрагивающая уже не только человеческие взаимоотношения, но и самого человека как представителя определенного биологического вида. В этой ситуации вновь (как уже не раз было в истории человечества) актуализируется архаическое противопоставление естественного и искусственного начал, которое «предстает как объективно необходимая форма защиты (своеобразные «сдержки и противовесы» природы против культуры) «естественного» (вне человека и в нем самом) от опасностей и угроз «искусственного» [Нерсесянц В.С., 2002: 24].
Однако при всех достоинствах этого человекоцентристского типа правопонимания у него есть существенные внутренние дефекты, связанные с необоснованностью претензий морали на статус общезначимого регулятора. Нормы общественной морали по природе своей партикулярны, т.е. обусловлены общественным сознанием отдельного социума, чей этический консенсус они выражают7. Это значит, что, будучи применены к представителям иного социума, подобные нормы вполне могут оказаться формой произвола.
Очень показательно, что после бурных многовековых дискуссий между юридическим позитивизмом и юснатурализмом вдруг оказалась, что в ситуации, когда взрывной характер развития НБИК-технологий вплотную подвел человеческую историю к черте, за которой возможно так называемое постчеловеческое будущее и на подступах к которой человечество должно сделать экзистенциальный (возможно, самый трудный в его истории) выбор, принципиальные различия между этими доктринами на практике полностью нивелировались. И позитивисты, для которых любой произвол становится правом, если облекается в форму закона, и юснатуралисты, считающие, что моральные нормы могут и должны получать закрепление в законе, в данном случае едины: и те, и другие исходят из того, что моральные принципы биоэтики можно закрепить в нормативно-правовом акте. Данное обстоятельство дает основания усомниться в адекватности каждого из этих типов правопонимания и поискать иной подход к проблеме соотношения права и морали.
Таким третьим подходом является либертарно-юридическая теория, с позиций которой право — это самостоятельное социальное явление, обладающее собственной сущностью, что позволяет отличить его и от властного произвола в форме закона, и от морали. Сущность права трактуется здесь как формальное равенство людей в их свободе, а итогом применения к людям равной меры является справедливость как правовая категория, имманентно связанная с равенством. Этот подход не сводит этическую составляющую философии к философии морали. Отвечая на вопрос: является ли право этически нейтральным, имеет ли оно ту же природу, что и общественная мораль, или обладает собственным этическим принципом, данный тип правопонимания исходит из того, что право — это нормативная система, основанная на специфически правовом (сущностном для права) принципе различения добра и зла: добро для права — это равенство в свободе, а зло — это неравенство в форме произвола. С точки зрения данного подхода, биоэтика включает в себя релевантную ей проблематику права и предстает как сфера взаимодействия сущностно различных подсистем этической регуляции — моральной и правовой, — каждая из которых имеет свой предмет регулирования. При этом надлежащая взаимодополняемость данных нормативных подсистем способна существенно усиливать их общий регулятивный потенциал в пространстве отношений, относящихся к предмету биоэтики. Поэтому далее мы будем руководствоваться либертарным правопониманием, в наибольшей степени отвечающим запросам современного общества на выработку четких, эмпирически верифицируемых критериев отграничения права как меры свободы от всех многочисленных форм произвола.
Если подойти к оценке указанных выше биоэтических принципов с позиций правового принципа формального равенства, то можно сказать, что, хотя в практическом плане для адекватной юридической конкретизации этих принципов предстоит еще многое сделать, с теоретической точки зрения проблемными являются лишь два из них — принцип справедливости и принцип «делай благо». Что касается принципов «не навреди» и автономии личности, то они представляют собой конкретизацию принципа формального равенства, согласно которому свобода одного человека может быть реализована, пока она не нарушает свободу другого человека и ценности общего блага, которые являются условием реализации свободы. В зависимости от социального контекста данная абстрактная формула может быть облечена и в жестокий принцип талиона, и в возвышенный категорический императив И. Канта8, и в правовые нормы, компенсирующие уязвимость статуса испытуемого в современных биомедицинских исследованиях. Какое обличье она приобретает в той или иной исторической ситуации, зависит в конечном итоге от смысла, которым общество наполняет понятие свободы.
Для юридической интерпретации двух других биоэтических принципов наибольшую сложность составляет осмысление принципа справедливости, от той или иной трактовки которого будет зависеть и понимание принципа «делай благо», и возможности его юридической интерпретации. В настоящее время смысловое пространство теорий справедливости задано двумя основными ментальными традициями европейской правовой культуры: античной, основанной на идее внутренней взаимосвязи права и политической справедливости, определяемой через равенство (когда справедливым считалось такое устройство полисной жизни, когда каждый занимается своим делом, не захватывая при этом чужого и не лишаясь своего), и христианской, в рамках которой понимание справедливости тяготеет к милосердию. В первом случае справедливость — это правовая категория, определяемая через равенство в свободе, а во втором — моральная категория, где принцип равенства растворен в безграничном пространстве милосердия.
В связи с этим следует отметить, что конкретизация в нормах Конвенции биоэтического принципа справедливости в целом не противоречит принципу формального равенства и целиком находится в русле положений «Международных этических принципов биомедицинских исследований с участием человека», принятых в 1993 г. Советом международных организаций медицинских наук. Согласно этому документу, под справедливостью в биомедицинских исследованиях понимается равномерное распределение бремени и выгод от участия в исследованиях. Отступление от принципа равномерности возможно лишь на основании морально значимых различий между людьми, одним из которых является уязвимость — неспособность в силу ряда причин защитить собственные интересы (т.е. неспособность дать информированное согласие, получить альтернативные средства медицинской помощи или иные дорогостоящие предметы первой необходимости, а также подчиненное положение в системе иерархических отношений)9. С точки зрения принципа формального равенства указанные здесь «морально значимые различия между людьми», предопределяемые их биологической или социальной уязвимостью, трактуются как юридически значимые различия, которые должны быть преодолены системой компенсаций в виде правовых гарантий, нацеленных на преодоление указанных различий в мере, в какой это не затрагивает права других лиц. В полном соответствии с принципом правовой компенсаторности как одной из модификаций принципа формального равенства, главное внимание в Конвенции уделено правам пациентов-испытуемых и направлено на компенсацию социобиологической слабости этого круга лиц в их взаимодействии с врачом-исследователем.
Особняком в ряду биоэтических принципов, анализируемых с позиций понимания справедливости как равенства в свободе, стоит принцип «делай благо» (beneficence), который, в отличие от остальных, не поддается юридической интерпретации. В основе принципа благотворительности, который называют «основным принципом биоэтики, восходящим к этическому учению Парацельса [Асеева И.А., Никитин В.Е., 2002: 15], лежит идея милосердия как любви к ближнему. Не оспаривая колоссального значения великой христианской идеи, отметим, что она не релевантна сфере права: у человека нет права на милосердие, т.е. права на благотворительность ни со стороны частных лиц, ни со стороны государства, ни даже со стороны врачей. Попытка соединить идеи равенства и милосердия в рамках концепта «равного права на милосердие» [Силуянова И.В., 2001:180], опирающегося на концепцию права как минимума нравственности В.С. Соловьева, неубедительна. В свое время эту концепцию аргументированно раскритиковал Б.Н. Чичерин, отмечавший, что безграничная по своей природе сфера милосердия не поддается количественному измерению [Чичерин Б.Н., 1998:491]. Различие между правом и нравственностью (общественной моралью) определялось им как качественная разница между законом справедливости, требующим воздавать каждому свое, и законом любви, предписывающим жертвовать собой во имя ближнего. У человека нет права на любовь, но у него есть право на равную с другими свободу, конкретизация которого в условиях современного социального правового государства предполагает максимально возможную правовую компенсацию его незаслуженной социобиологической слабости. Путем такой соразмерной (а значит — правовой по своей сути) компенсации, наполняющей принцип формального равенства социальным содержанием, в рамках права взаимно обогащаются «хорошо проверенные формулы римских юристов, рациональные системы греческих философов и страстные заклинания еврейских пророков» [Перельман X., 2013: 225].
В Конвенции по биоэтике этот сугубо моральный принцип взаимоотношений врача и пациента получил нормативное закрепление в ст. 2, согласно которой «интересы и благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки». В формулировке данной статьи вызывает вопрос уже то, что в основополагающем положении Конвенции, посвященной защите прав человека, говорится не о правах, а об интересах человека и о его благе. Между тем право человека (если это действительно право по своей сути) является итогом согласования правообразующих интересов отдельного человека с правообразующими интересами любого другого человека (в том числе и врача-исследователя), а через них — с интересами общества, государства и человечества в целом. Когда же речь идет об интересах и благе человека, то подробное согласование не подразумевается. Замена категории «право» на категорию «интерес» в нормативно-правовом акте о защите прав человека — это весьма необычное для правовой практики решение вопроса10, которое при определенном развитии событий может иметь далеко идущие последствия.
То же самое относится и к категории «благо», смысловое наполнение которого, кстати, остается здесь неясным: имеется ли в виду лишь здоровье как нематериальное личное благо или речь идет о гораздо более широком каталоге благ, охватываемых понятием «достоинство человека»? Если благо, о котором говорится в ст. 2 Конвенции, сводится к здоровью человека, то его правовое выражение и защита осуществляется посредством права человека на охрану здоровья. При этом правовая охрана здоровья как блага отдельного человека предполагает согласование пределов охраны этого блага с возможностью охраны здоровья иных субъектов права, а также с теми ценностями общего блага, которые являются необходимым условием реализации блага каждого не только на охрану здоровья, но и на защиту иных прав и свобод человека и гражданина. Весь этот комплекс взаимосогласованных притязаний, выраженный понятием «право человека на охрану здоровья», не равнозначен концепту, обозначенному в ст. 2 как «интересы и благо отдельного человека». Еще более сложный комплекс притязаний на правовую защиту будет нуждаться в согласовании, если под благом имеется в виду достоинство человека — категория, лежащая в основе всей системы прав и свобод человека и гражданина.
В Пояснительном докладе к Конвенции, подготовленном по просьбе Руководящего комитета по биоэтике Совета Европы и представляющим собой авторитетный научный комментарий к Конвенции, предпринята попытка смягчить ригоризм формулировки ст. 2. В докладе сказано, что в этой статье преимущество «отдается интересам человека, которые в принципе (курсив мой — В.Л.) должны иметь перевес перед интересами науки или общества в случае коллизии между ними»11. Если трактовать появившееся здесь слово «в принципе» в контексте другого тезиса доклада о том, что индивида необходимо рассматривать так же, как составную часть социального целого, разделяющего некоторые общие этические принципы и регулируемого правовыми нормами», то видно, что авторами предлагается такая интерпретация ст. 2 Конвенции, которая допускает отклонение от принципа приоритета интересов и блага человека, когда его статус как «части социального целого» приобретает особое значение. Скорее всего, имеются в виду ситуации, когда интересы и благо пациента требуют такого совершенствования его телесных или психических характеристик, которое выходит за рамки лечения и может вступить в противоречие с задачами сохранения человечества как биологического вида и социальной общности.
С другой стороны, заложенный в ст. 2 безоговорочный и безграничный приоритет интересов и блага отдельного человека над интересами как науки, так и общества, заинтересованного в научном прогрессе, включает в сферу своего влияния интересы и благо лиц, чье человеческое достоинство будет ущемлено, если им придется вступать в социальную конкуренцию с представителями «улучшенного человечества». Кроме того, к числу таких субъектов, чьи интересы преобладают над интересами науки, следует отнести и тех ученых, кто, осознав опасность создаваемых ими биотехнологий, решит придать свои опасения гласности, вступая таким образом в конфликт с коллегами, спонсорами, государственными структурами и т.д.
Возможность столь различных по своему содержанию интерпретаций рассматриваемой нормы означает, что прямой перенос в ст. 2 Конвенции морального принципа «делай благо» породил высокую степень неопределенности. Это, как известно, противоречит природе права, поскольку неопределенность в толковании правовой нормы всегда означает отступление от правового принципа формального равенства. Данное обстоятельство создает проблемы имплементации рассматриваемой нормы в национальное законодательство и ее последующей юридической конкретизации. Подобные проблемы необходимо снять либо путем принятия нормативных международно-правовых актов соответствующего уровня, либо путем толкования Конвенции Европейским судом по правам человека (поскольку согласно ст. 29 Конвенции ЕСПЧ может в надлежащей порядке, «не ссылаясь непосредственно на какое-либо конкретное дело, находящееся в судопроизводстве, выносить консультативные заключения по юридическим вопросам, касающимся толкования настоящей Конвенции»), До сих пор ст. 29 не применена, хотя ЕСПЧ активно ссылается в своих решениях на положения Конвенции по биоэтике.12
Есть основания полагать, что юридическая некорректность формулировки данной статьи является одним из факторов, препятствующих ее подписанию. На данный момент, т.е. спустя более 20 лет со дня принятия Конвенции, ее подписали лишь 35, а ратифицировали 29 государств-членов Совета Европы (хотя Конвенция открыта для подписания и государствами, не входящими в Совет). При этом Дополнительный протокол к Конвенции о биомедицинских исследованиях, принятый в 2005 г., ратифицировали всего 11 государств13. Не подписала Конвенцию и Россия, хотя возражений против ее положений на официальном уровне никогда не было. По мнению специалистов, подписание этого акта тормозится российским медико-биологическим сообществом, опасающимся, что некоторые его положения будут препятствовать развитию отечественной биомедицины. Показательно, что в заявлении участников российской программы «Геном человека» содержится уточнение формулировки ст. 2 Конвенции: под «отдельным человеком», интересы и благо которого «превалируют над интересами общества или науки», здесь предложено понимать лишь «испытуемых, доноров биологических материалов или пациентов»14. Однако это очевидное, на первый взгляд, уточнение не соответствует претензиям Конвенции на охват также и тех отношений, которые выходят за рамки биомедицинских исследований в сферу использования их результатов. И здесь мы подходим к гораздо более сложной проблеме отношений между биомедициной и обществом по поводу применения биотехнологий.
2. Отношения между наукой и обществом по поводу угроз, связанных с применением биотехнологий
В Конвенции по биоэтике данная проблема получила отражение в Преамбуле; в упомянутой уже ст. 2; в ст. 13, согласно которой вмешательство в геном человека может быть осуществлено лишь в медицинских целях и лишь при условии, что оно не направлено на изменение генома его наследников; в ст. 14, где запрещается использование технологий для определения пола ребенка, если это не обусловлено медицинскими целями; в ст. 18, запрещающей создание эмбриона человека в исследовательских целях, а также в двух Дополнительных протоколах к Конвенции (о запрещении клонирования человеческих существ от 12 ноября 1998 г. и о биомедицинских исследованиях от 25 января 2005 г.). Вопросы, составляющие предмет данного нормативного комплекса в настоящее время, активно обсуждаются в рамках современного философского дискурса [Habermas J., 2002: 72; Fukuyama F., 2002: 256; Kurzweil R., 2005: 672; Harari Y.N., 2016: 330]. В центре этих дискуссий находится проблема усовершенствования человека путем биотехнологических манипуляций и прежде всего — генной инженерии.
Осмысление опасностей, которыми чревато неконтролируемое применение биотехнологий (и, прежде всего, технологий по совершенствованию телесных, психических и когнитивных характеристик человека), выходит на мировоззренческие вопросы, затрагивающие фундаментальные основы человеческого бытия. При этом наряду с проблемами, которые в принципе могут быть решены с помощью права хотя бы на теоретическом уровне, человечество сталкивается здесь и с такими вызовами, перед которыми право пока бессильно. Суть этих вызовов, в конечном итоге, сводится к отсутствию ответов на два ключевых вопроса: хочет ли человек оставаться человеком, т.е. биосоциальным существом, обладающим разумом и свободной волей, а если да, то может ли он воздержаться от такого вторжения в свою природу, которое чревато необратимыми качественными изменениями его биологических характеристик. Подобная постановка вопросов обусловлена тем, что в свете набирающих популярность проектов трансгуманизма, защищающих «благополучие всех существ, наделенных чувствительностью, включая... любые будущие искусственные интеллекты, модифицированные формы жизни либо иные виды разума, к которым может привести технологическое и научное развитие»15, подход общества к направлениям и пределам применения биотехнологий никак нельзя признать консолидированным16. Нет единства в этом вопросе и в научном сообществе.
В настоящее время правовые ограничения, которые ставят на пути неконтролируемого развития биотехнологий международные акты и законодательство многих стран, не способны обеспечить сколько-нибудь надежную защиту. И подобные ограничения даже в самом общем их начертании декларируются далеко не всеми государствами.
Между тем в условиях жесточайшей научной, экономической и политической конкуренции в сфере биотехнологического развития, отсутствие тех или иных правовых и моральных ограничений становится важным конкурентным преимуществом. Нельзя недооценивать и тот факт, что члены мировой элиты, распоряжающиеся большими деньгами и имеющие реальную власть, вряд ли всерьез заинтересованы в торможении биотехнологического развития, обещающего создание могущественной во всех отношениях касты сверхлюдей. Возьмем для примера широко обсуждаемую возможность редактирование генома человеческого эмбриона с целью создания так называемых «дизайнерских детей». На этот счет в Конвенции о биоэтике (ст. 13) есть четко сформулированный запрет. Однако эта европейская Конвенция ратифицирована даже далеко не всеми членами Совета Европы, а действующие в других регионах и странах мира нормативно-правовые акты в данной сфере отличаются большим разнообразием. При этом существенное значение для реального, а не декларируемого отношения разных государств к данной проблеме имеет отсутствие механизмов международного контроля за проведением биомедицинских исследований. Более того, контроль за теми процессами, которые происходят за закрытыми дверями лабораторий (особенно если это лаборатории частных фармацевтических компаний), крайне затруднен даже на внутригосударственном уровне.
Мы сталкиваемся с вызовом такого масштаба, перед которым пасует современное социогуманитарное знание, вынужденное обращаться за помощью к общественному и религиозному сознанию. Показательна позиция Ю. Хабермаса, который делает в этом вопросе ставку на мудрость коммуникативного разума, рассчитывая на возможность в каждом случае применения биотехнологий получить в ходе коммуникативного дискурса ответ на вопрос, ведет ли генетическая самотрансформация человечества к росту автономии отдельного человека или, напротив, подрывает нормативное самоопределение личности. В конечном итоге именно сохранение возможности такого дискурса между автономными субъектами, способными оказывать друг другу «равное уважение», и является для него главным критерием при решении проблем биоэтики [Тищенко П.Д., 2004: 309-332].
Не менее выразительно и то обстоятельство, что либеральная философия, которая, начиная с Нового времени, считала вслед за И. Кантом, что мораль не нуждается в религии, выступает сейчас в лице Ю. Хабермаса за возвращение религии в пространство интеллектуальных дискуссий, провозглашает формирование постсекулярного общества [Хабермас Ю., 2008: 1-2] и признает, что религия сохраняет в себе нечто такое, что утрачено в других областях [Хабермас Ю., Ратцингер Й., 2006: 65]. Таким образом, в условиях опасности дегуманизации, порождаемой развитием новейших технологий, философия стремится заручиться поддержкой религии и разделить с ней ответственность за решение экзистенциальных проблем человечества, стоящих в повестке дня.
Весьма осторожно ведут себя и национальные законодатели, которые перекладывают решение наиболее острых проблем регулирования отношений в области биомедицинских исследований на систему этических комитетов, охватывающую структуры разного уровня — от этических комитетов лечебных учреждений до Национальных комитетов по биоэтике при государственных комиссиях по делам ЮНЕСКО. Можно сказать, что такие комитеты, куда входят (во всяком случае, должны входить) не только эксперты в области биомедицины, но и философы, юристы, священнослужители, а также общественные деятели — модель коммуникативного разума, на который уповает Ю. Хабермас. Особенность этих принципиально новых центров принятия решений заключается в том, что здесь «философия, религия, наука, медицина, практическая мудрость «людей с улицы» оказываются равноправными и в равной степени (хотя в разном отношении) ответственными за разрешение проблем жизни и смерти, которые возникают в острейших биоэтиче- ских ситуациях» [Тищенко П.Д, 2001: 76]. Однако, с другой стороны, решение сложнейших, метафизических по своей сути вопросов посредством подобия социального консенсуса вызывает и вполне понятные опасения17.
В целом в настоящее время поиск реальных путей социального контроля за развитием биотехнологий идет преимущественно в моральной плоскости: главными регуляторами оказываются общественная мораль, корпоративная мораль медико-биологического сообщества и индивидуальная мораль исследователей. Существенная особенность нормативного регулирования этой сферы отношений на данном этапе в том, что право здесь выступает скорее в роли фактора, препятствующего защите общечеловеческих интересов от угроз технологической дегуманизации, ибо дает возможность исследовательским коллективам, их спонсорам, соответствующим частным фирмам и государственным структурам возможность скрыться от социального контроля с помощью таких правовых инструментов, как интеллектуальная собственность, коммерческая тайна, государственная тайна и т.д.
В этой ситуации особое значение приобретает индивидуальная мораль ученого. Здесь нельзя не вспомнить, что в свое время стратегический паритет между США и СССР, удержавший мир от ядерной катастрофы, был достигнут во многом благодаря тому, что советская разведка получала информацию от ученых, работавших над Манхэттенским проектом. Однако в наши дни опрометчиво рассчитывать на мораль и мужество отдельных лиц, особенно памятуя, что биотехнологический прогресс несет в себе далеко не столь очевидную опасность, как ядерное оружие. Поэтому исключительно важным направлением поисков баланса правовых и моральных регуляторов в сфере создания и применения биотехнологий должно, по-видимому, стать обеспечение гарантий прав исследователей в русле ст. 24 и 29 Конвенции по биоэтике. Согласно ст. 24, государства должны принимать меры по пересмотру проектов биомедицинских исследований, «если таковое оправдано в свете появления новых научных данных в ходе проведения исследований». А ст. 28 ориентирует на то, «чтобы фундаментальные проблемы, связанные с прогрессом в области биологии и медицины... были подвергнуты широкому общественному обсуждению... то же самое относится и к проблемам, связанным с практическим использованием достижений биомедицинской науки и практики». Развитие этих положений и перевод их в нормы национального законодательства предполагает поиск соразмерности между необходимостью защиты, с одной стороны, прав интеллектуальной собственности, коммерческой и государственной тайны, а, с другой стороны, — права исследователя на обнародование своих опасений с целью предотвращения того вреда, который могут нести биотехнологии человечеству в целом.
Заключение
Впечатляющие успехи биомедицины и, прежде всего, в изучении генома человека, которые в обозримой перспективе обещают существенный прорыв в повышении качества и продолжительности человеческой жизни, одновременно с этим уже сейчас ставят перед человечеством ряд поистине экзистенциальных вызовов. Осмысление этих вызовов и поиск адекватных ответов на них — важнейшая задача социальной философии как системы знаний об основах человеческого бытия и юриспруденции как науки о свободе в ее нормативном выражении и государственном (публично-властном) признании. Надлежащее соединение потенциалов этих наук в рамках биоэтики и, прежде всего, в сфере изучения взаимодействия права и морали могло бы способствовать столь необходимой сейчас гармонизации (а в перспективе — унификации) национального законодательства, регламентирующего исследования в области биомедицины и практики применения биотехнологий.
Потребность в создании наднационального правового пространства, в рамках которого на базе общих принципов и правил обеспечивалось бы как осуществление биомедицинских исследований и развитие биотехнологий, особенно актуальна применительно к геномным исследованиям и генной инженерии. Ведь, как гласит ст. 1 Всеобщей декларации о геноме человека и о правах человека, геном человека «лежит в основе изначальной общности всех представителей человеческого рода, а также признания их неотъемлемого достоинства и разнообразия»18 и знаменует собой достояние человечества. Это означает, что представители всех национально-этнических групп и социокультурных общностей человечества в равной мере заинтересованы как в прогрессе геномных исследований, так и в снижении связанных с ними рисков и угроз. Данная потребность усиливается тем, что геномные исследования представляют собой высоко конкурентную сферу деятельности, где идет научное соперничество за приоритет в открытии нового знания, экономическое — за рынки соответствующих медицинских услуг, политическое — между государствами за возможность не только улучшить качество жизни своих граждан, но и обеспечить более высокий уровень национальной биобезопасности. Последний момент придает этой конкуренции особую остроту. Сложившийся на данном этапе отрыв отдельных государств в овладении генно-инженерными технологиями от остального мира, а также неэффективность наднационального контроля над геномными исследованиями и использованием их результатов дают основание говорить о необходимости создания принципиально новой системы международной безопасности19, контуры которой пока не определены даже в самом первом приближении.
Все более актуальной становится и правозащитная функция биоэтики в области геномных исследований и применения соответствующих технологий. Во всем мире обсуждается информация о рождении в Китае первых генетически модифицированных детей: речь идет об эксперименте китайского ученого Хе Цзянькуя с генетическим редактированием эмбрионов, в результате которого родились девочки-близнецы с врожденной устойчивостью к заражению ВИЧ. Ученому грозит уголовное преследование, но не за нарушение норм научной деятельности (в ходе которой, по мнению специалистов, применялась технология, не гарантировавшая безопасность эксперимента), а, как считают власти Китая, за сопутствующие преступления, связанные с коррупцией и подделкой документов, необходимых для получения разрешения на исследования. Между тем его эксперимент может весьма болезненным (во всяком случае — непредсказуемым пока) образом сказаться и на судьбе лиц, вовлеченных в него в качестве испытуемых, и на судьбе их будущих поколений, и на судьбах человечества в целом.
В 2015 г. вопрос о возможности редактирования генома человеческого эмбриона обсуждался на Международном саммите по редактированию генов человека, созванном ведущими специалистами в данной области из Национальной академии наук США, Института медицины Китайской академии наук и Королевского общества Лондона. В принятом на саммите Заявлении его участники, по сути, объявили временный мораторий на использование метода генного редактирования человеческого эмбриона, подлежащего имплантированию с целью наступления беременности. При этом они призвали к организации постоянно действующего форума по данной проблеме, отметив, что по мере развития научных знаний и общественных взглядов, ограничения на клиническое редактирование человеческого эмбриона следует регулярно пересматривать на международном уровне. Хотя каждая нация, как сказано в Заявлении, имеет право регулировать соответствующую деятельность под своей юрисдикцией, геном человека является общим для всех наций и «международное сообщество должно стремиться к установлению норм, обеспечивающих приемлемый подход к редактированию человеческого эмбриона и к гармонизации правил, с тем, чтобы препятствовать неприемлемой деятельности и содействовать укреплению здоровья и благосостояния человека»20.
Такой подход в полной мере соответствует положению ст. 13 Конвенции по биоэтике, согласно которой «вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть осуществлено лишь в профилактических, диагностических или терапевтических целях и только при условии, что оно не направлено на изменение генома наследников данного человека». Однако данную Конвенцию подписали пока 35 государств-членов Совета Европы, а ратифицировали лишь 29 государств21, при этом, как показал казус Хе Цзянькуя, многочисленные рекомендательные нормы (пусть даже и высокого международного уровня) явно недостаточны.
Идея так называемого технологического императива, суть которого в том, что человечество не сможет остановиться в технологическом развитии даже перед угрозой собственной гибели, по-видимому, впервые получает столь явное подтверждение. В связи с этим весьма показательно, что информированный в области новейших технологий К. Шваб (организатор и многолетний президент Всемирного экономического форума в Давосе) в работе, ставшей манифестом четвертой технологической революции, еще в 2016 г. с уверенностью говорил, что «вскоре следует ожидать появления спроектированных младенцев, обладающих конкретными качествами или устойчивостью к определенным заболеваниям» [Шваб К., 2016: 22]. Другой, тоже весьма информированный, хотя и в иной сфере — в области истории человечества — израильский историк Ю. Харари уверенно утверждает, что человечество, несмотря на все опасения, будет стремиться идти по пути апгрейда, т.е. совершенствования своей природы с помощью новейших, в том числе и биомедицинских, технологий. Выбор такого пути, заключает он, «может быть грандиозной ошибкой. Но история полна грандиозных ошибок» [Харари Ю., 2019: 71].
Все это диктует необходимость с максимальной полнотой использовать правовой потенциал сформированного к настоящему времени массива международных актов, регламентирующих рассматриваемую сферу отношений. Несмотря на значительный объем международных документов, так или иначе касающихся геномных исследований, основная регулятивно-правовая нагрузка приходится на региональный международно-правовой нормативный акт — Конвенцию Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины и на Дополнительные протоколы к ней. Поэтому философско-правовой анализ данного нормативно-правового акта под углом зрения проблемы соотношения права и морали, а также в целом разработка данной проблематики в контексте организации и осуществления социогуманитарной экспертизы биотехнологического развития становятся актуальными направлениями работы в области теории и философии права.
Библиография
- Асеева И.А., Никитин В.Е. Биомедицинская этика. Курск: Курск.мед. ун-т, 2002.96с. Гусейнов А.А. Великие моралисты. М.: Республика, 1995. 351 с.
- Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? / Кант И. Собр. соч. в 6-ти томах. Т.6. М.: Мысль, 1966. С. 25-35.
- Моисеев Б.И. От биоэтики к биофилософии //Философские проблемы биологии и медицины. 2018. Вып. 12. С. 4-8.
- Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция//Вопросы философии. 2002. N 3. С. 3-15.
- Нерсесянц В.С. Право и культура: Предмет и проблемы юридической аксиологии. М.: РУДН, 2002. С. 5-65.
- Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма, 2006. 830 с.
- Перельман X. Три аспекта справедливости // Правоведение. 2013. N 2. С. 211-225.
- Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. М.: Грантъ, 2001.192 с.
- Тищенко П.Д. Био-власть в эпоху биотехнологий. М.: ИФРАН, 2001. 139 с.
- Тищенко П.Д. Новейшие биомедицинские технологии: философско-антропологический анализ (Анализ идей либеральной евгеники Ю. Хабермасом )/Вызов познанию: Стратегии развития науки в современном мире /отв. ред Н.К. Удумян. М.: Наука, 2004. С.309-332.
- Тищенко П.Д. Биоэтика: автономия воли и власть (от Канта до Фуко) / Рабочие тетради по биоэтике. Биоэтика: антропологические проблемы / под ред. Б. Г. Юдина. М.: Моск, гуманит. ун-т, 2006. С. 14-31.
- Тищенко П.Д. История и теория этической регуляции биомедицинских исследований /отв. ред. Б.Г. Юдин. М.: Моск, гуманит. ун-т, 2007. С. 16-32.
- Тищенко П.Д. Этические проблемы развития биотехнологий / Этические проблемы развития биотехнологий //Журнальный клуб «Биоэтика и гуманитарная экспертиза». 2008. N2. С. 55-82.
- Тищенко П.Д., Юдин Б.Г. Проект «Геном человека»: этические и правовые нормы. М.: Комитет биоэтики РАН, 1998. С. 9-24.
- Фуллер Л. Мораль права. М.: ИРИСЭН, 2007. 305 с.
- Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? М.: Весь Мир, 2002.144 с.
- Хабермас Ю. Постсекулярное общество — что это? Часть первая // Российская философская газета. 2008. N 4. С. 1-2.
- Хабермас Ю., Ратцингер Й. Диалектика секуляризации. О разуме и религии. М.: Библейско-богословский институт, 2006. С. 39-76.
- Харари Ю. Homo Deus. Краткая история будущего. М.: Синдбад, 2018. 402 с.
- Чичерин Б.Н. Избранные труды. СПб: Санкт-Петерб. ун-т, 1998. 553 с.
- Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: ЭКСМО, 2016. 136 с.
- Fukuyama F. (2002) Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution. NewYork: Farrar, Straus and Giroux, 256 p.
- Hararl Y (2016) Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. London: Harvill, 330 p.
- Kurzweil R. (2005) The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology. N.Y: Basic Books, 672 p.
- Poland S. (2005) Bioethics, Biolaw and Western Legal Heritage. Washington: Georgetown University, 8 p.





