Цифровой рубль: взгляд цивилиста на проблему
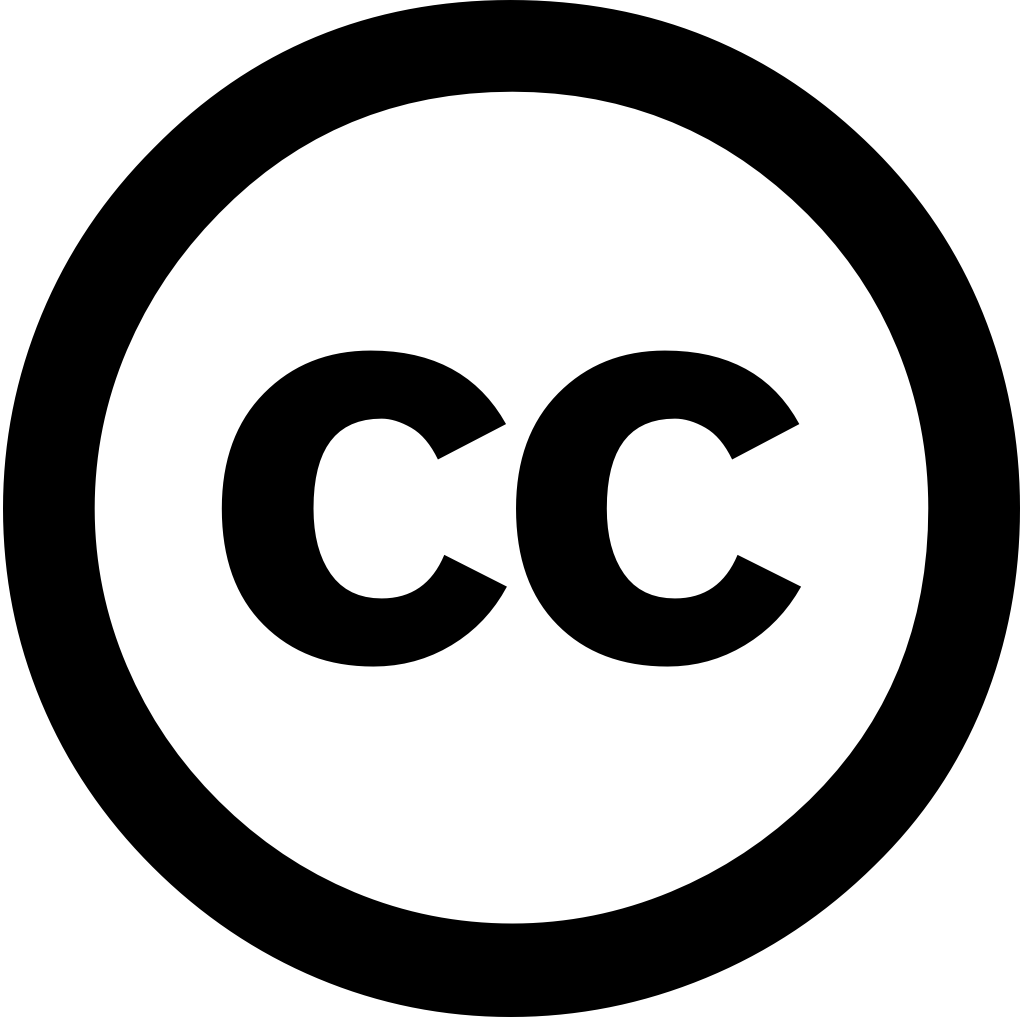

Опубликована Янв. 1, 2023
Последнее обновление статьи Май 28, 2024
Аннотация
Проводимое Банком России тестирование платформы цифрового рубля актуализирует проблему определения его юридической природы и особенностей гражданско-правового режима. Опираясь на базовые положения науки гражданского права, автор исследует представленную ЦБ РФ экономическую концепцию цифрового рубля; с цивилистических позиций рассматривает соотношение понятий «цифровой рубль», «цифровые деньги», «валюта», «криптовалюта», «цифровой финансовый актив». Аргументируется вывод об ошибочности правовых суждений в трактовке цифрового рубля как новой формы денег — как формы рубля, как формы российской национальной валюты. Сравнивая положения концепции с предписаниями о цифровой валюте по Федеральному закону от 31.07.2020 № 259-ФЗ, автор обосновывает ряд выводов: цифровой рубль существует в особой материальной форме, существующей в виде цифр и иных знаков на особом материальном носителе — специальных компьютерных системах под управлением специальных программ в виде цифровой платформы; в юридическом смысле цифровые рубли — цифровые безналичные денежные средства — права требования, возникающие на основании договора об открытии и о ведении цифрового кошелька и выступающие элементом содержания правоотношения между банком и клиентом — держателем цифрового кошелька по осуществлению денежных расчетов в безналичном порядке. В предложенном Банком России подходе к введению цифрового рубля в имущественный оборот много общего с реализованной на практике моделью расчетов с использованием электронных кошельков и предоплаченных смарт-карт. Цифровой рубль как безналичное денежное средство (в цифровой форме) выступает имущественным (обязательственным) правом и, вне сомнения, подпадает под гражданско-правовую квалификацию цифрового права, его разновидности.
Ключевые слова
Криптовалюта, цифровое право, безналичные денежные средства, валюта, наличные деньги, объект гражданских прав, цифровые деньги, цифровая валюта, цифровой финансовый актив
Представленная в докладе Центрального банка Российской Федерации экономическая концепция цифрового рубля1 (далее — Доклад Банка России), тестирование крупными российскими банками платформы цифрового рубля в 2022 г., запланированное на 2023 г. апробирование его в операциях с клиентами, а также решение Банка России о легализации цифрового рубля в качестве законного средства платежа на всей территории Российской Федерации актуализирует проблему определения юридической природы и особенностей гражданско-правового режима цифрового рубля. В связи с этим возникает ряд вопросов, на которые юристам необходимо дать квалифицированный ответ, но не с позиций экономической сущности денег и характерной для экономической науки терминологии, а сточки зрения правовой, гражданско-правовой, прежде всего, поскольку именно цивилистика (учитывая специфику предмета и метода гражданского права) способна дать ответы на следующие теоретико-правовые вопросы: можно ли рассматривать цифровой рубль в качестве объекта гражданских прав? Если дать утвердительный ответ, то какое место занимает цифровой рубль в системе объектов гражданских прав? В чем отличие цифрового рубля от наличных денег, от безналичных денежных средств, а также от внедряемых частными лицами в имущественный оборот денежных суррогатов, таких как криптовалюта? С какого момента цифровой рубль можно будет рассматривать как законное средство платежа и в чем его отличие от средств платежа, эмитентом которых выступают частные лица? Относится ли с позиций методологии науки гражданского права цифровой рубль к валюте или нет? Указанный перечень вопросов требует осмысления, правильных гражданско-правового обоснования и трактовки.
Анализ обширной правовой литературы показывает, что в оценке цифрового рубля, к сожалению, преобладают разноголосица мнений и понятийный хаос. Будучи проявлением искажения сути базовых основ науки гражданского права, допускаемого учеными — кандидатами и докторами юридических наук, речь идет, прежде всего, не о правовой, а об экономической оценке цифрового рубля2. На наш взгляд, все погрешности и допускаемые авторами ошибки связаны, прежде всего, с тем, что происходит недопустимая для любой науки, в том числе и науки гражданского права, механистическая подмена понятий. Экономическая терминология используется юристами, главным образом нецивилистами, для раскрытия пра-
вовой сущности цифрового рубля, что, на наш взгляд, недопустимо. Каждая наука имеет свой инструментарий, с помощью которого исследуется то или иное явление или процесс. Смешение понятийного аппарата различных наук, в том числе подмена правовых терминов терминами экономическими, оборачивается вольной, субъективной, искажающей суть исследуемого правового феномена интерпретацией. Это следует учитывать при анализе цифрового рубля как правового явления. Поэтому при правовом исследовании представленной Банком России концепции цифрового рубля следует учитывать, что в ней идет речь об экономической характеристике цифрового рубля, и задача цивилиста, анализирующего новый цифровой инструмент имущественного оборота, заключается, прежде всего, в том, чтобы не допустить переноса экономических понятий и категорий, отражающих сущность цифрового рубля, в его юридические характеристики. В противном случае недопустимый в правовом исследовании метафизический подход обернется неточностями и ошибками в оценке цифрового рубля, цифровых денег, что, собственно, и происходит в науке гражданского права последних лет.
В отсутствие единого цивилистического «стержня» на процессы, связанные с подготовкой легализации цифрового рубля в качестве законного средства платежа, обратим внимание на правовые погрешности авторов, демонстрирующих в анализе отход от классических основ российского гражданского права.
Прежде всего, отметим, что правовая сущность цифрового рубля необоснованно и ошибочно сводится многими авторами к смене формы российской валюты. Авторы исходят из опубликованной и представленной для ознакомления Банком России экономической концепции цифрового рубля, в которой отмечается, что цифровой рубль выступит «третьей формой российской валюты»3, которая будет эмитироваться Центральным банком Российской Федерации. Понимание цифрового рубля как формы валюты, как формы рубля неоднократно подчеркивалось в Докладе Банка России: «Цифровой рубль — это все тот же российский рубль, который будет выпускаться Банком России в цифровой форме (выделено нами. — Л. В.) дополнительно к существующим формам денег»4; «единая система денежного обращения, объединяющая три формы российского рубля — наличную, безналичную и цифровую (выделено нами. — Л. В.)...»5; «цифровой рубль будет дополнительной формой российской национальной валюты (выделено нами. — Л. В.)...»6 и др.
Так, С. А. Андрюшин отмечает, что цифровой рубль — это «третья форма денег государства, или цифровая форма национальной валюты, или электронное обязательство ЦБ, номинированное в национальной денежной единице и служащее средством платежа, меры счета (для регулирования обмена ценностей) и сохранения (сбережения) стоимости»7. Позицию автора (доктора экономических наук) разделяет доктор юридических наук А. В. Турбанов: «Данное определение цифровых денег — цифровой валюты Центрального банка — заслуживает поддержки. Но квалификация цифрового рубля в качестве третьей формы денег требует отдельного рассмотрения»8. Обратим внимание: экономическая трактовка цифровых денег безоговорочно поддерживается юристом.
Безусловно, можно сослаться на философский подход, как это делает в своем исследовании А. В. Турбанов, и процитировать энциклопедический словарь, сославшись на понимание формы как способа существования содержания, неотделимого от него и служащего выражением последнего9, но тем не менее допускать определенные погрешности с цивилистической точки зрения недопустимо: указанный автором философский подход в правовом анализе цифрового рубля не может быть реализован с помощью понятийного аппарата экономической теории денег. В этом случае, как справедливо отмечает А. В. Габов, предложенный Банком
России подход к трактовке цифрового рубля ведет к усилению неясности с «объектностью» денег, поскольку если признавать цифровой рубль формой денег, то неясно, что это за объект права, как он возникает и попадает в оборот?10
Согласиться с позицией авторов, отождествляющих цифровой рубль с цифровой валютой Банка России, сложно по причине того, что термин «валюта» применим только для наличных денег. Достаточно сослаться на ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», где зафиксировано: «Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль... (выделено нами. — Л. В.)», а также на положение п. 1 ст. 140 «Деньги (валюта)» ГК РФ: «Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории РФ».
Это означает, что только рубль является единственным законным средством наличного платежа (п. 1 ст. 140 ГК РФ) и, следовательно, до сих пор исключительно наличные деньги, то есть находящиеся в обращении на территории Российской Федерации денежные купюры и монеты Банка России, выступают валютой. Поэтому отнесение цифрового рубля к цифровой валюте или к цифровой форме национальной валюты с гражданско-правовой точки зрения ошибочно.
В связи с этим обратим внимание, как определяет цифровую валюту принятый 31 июля 2020 г. Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 259-ФЗ).
В части 3 ст. 1 Закона № 259-ФЗ указано: «Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей (выделено нами. — Л. В.), и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам».
Выделим конститутивные признаки цифровой валюты в данном определении и сравним их с положениями концепции цифрового рубля, показав основные различия.
1. Цифровая валюта (по Закону № 259-ФЗ) как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) может существовать в особой материальной, то есть цифровой форме. Прежде всего, обратим внимание на то, что законодатель не различает понятий «электронный» и «цифровой», поскольку информация в технических устройствах и системах (компьютер, планшет, смартфон, сервер и пр.) предстаете форме, позволяющей воспринимать ее как поток цифр. Часто под этой формой интерпретации информации понимают и компьютерную, и машинную, и электронную, и цифровую информацию, хотя суть одна — цифровая форма интерпретации информации. Это означает, что нет оснований для различения понятий «электронные деньги» и «цифровые деньги»11. Речь идет о материальной форме (подчеркнем это еще раз), несводимой к вещественной и существующей в виде цифр и иных знаков на особом материальном носителе (способах и средствах хранения информации) — BackUp-системах (USB-флешках, CD-дисках, DVD-дисках, Flash- накопителях, серверах (специальных компьютерных системах под управлением специальных программ)). Отметить материальность цифровой формы денег следует особо, поскольку в литературе преобладает ошибочный подход, отождествляющий материальность и вещественность, игнорируя философскую методологию в вопросе разграничения материального и идеального. Например, А. В. Турбанов пишет о том, что деньги имеют «материальную субстанцию (наличную форму) или идеальную (безналичную форму»12, и объясняет это следующим образом: «Безналичные деньги в виде записей на банковских счетах клиентов не перестают быть безналичными, если электронная платежная система не требует наличия банковских счетов. Эта особенность не означает, что появилась новая форма денег. Она как была идеальной (безналичной'), так и осталась (выделено нами. — Л. В.), только появилась новая разновидность безналичных денег»13. С гражданско-правовой точки зрения речь идет о безналичных денежных средствах («безналичные деньги» — экономическое понятие) как разновидности имущественных прав, обязательственных по своей правовой природе и существующих в виде записей на счетах. В условиях цифровизации банковской деятельности фиксация записей на счетах происходит не в бумажной, а в электронной (цифровой) форме, при этом вовсе не происходит смена материальной формы на идеальную.
Цифровой рубль, как указано в Докладе Банка России, «будет иметь форму уникального цифрового кода (выделено мной. —Л. В.), который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой»14.
Следовательно, и цифровая валюта, и цифровой рубль существуют в особой материальной, цифровой форме в виде кода.
2.Цифровая валюта (согласно ч. 8 ст. 1 Закона № 259-ФЗ) существует в информационной системе на основе распределенного реестра, обеспечивающего «тождественность информации, содержащейся в указанной информационной системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей». Следовательно, вне информационной системы цифровая валюта существовать не может. Это означает, что ее цифровая форма обусловлена исключительно возможностью возникновения в информационной системе и неспособностью ее «выхода» за рамки цифровой платформы.
Цифровой рубль, согласно Докладу Банка России, в отличие от цифровой валюты, можно будет использовать не только в онлайн- режиме, но и «в офлайн-режиме, то есть при отсутствии доступа к сети Интернет и мобильной связи. Для этого необходима разработка специальной инфраструктуры»15. В чем суть и особенности этой платежной инфраструктуры, в Докладе Банка России не раскрывается. Следовательно, цифровой рубль, «не имея физического носителя»16 при особой материальной (цифровой) форме, в отличие от цифровой валюты, будет иметь возможность свободного «выхода» из онлайн-режи- ма в офлайн-режим в рамках разработанной цифровой инфраструктуры. Предполагаемое цифровое новшество платежной инфраструктуры сходно, на наш взгляд, с инновационными решениями хранения безналичных денежных средств на электронных кошельках (например, Яндекс.Деньги — ЮМопеу, QIWI, PayPal, VK Pay), а также на цифровых картах в телефоне, в которых с помощью встроенного микропроцессора может быть записан цифровой эквивалент определенной денежной суммы, которая уже внесена на цифровую карту.
3.Цифровая валюта (по Закону № 259-ФЗ) не является денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей. Это означает, что она является условным понятием, сущность которого не имеет никакого отношения к валюте (наличным деньгам). Следовательно, цифровая валюта не является общеобязательным (законным) средством платежа, поскольку исключается возможность ее использования в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги (ч. 5 ст. 14). Неслучайно в ч. 7 той же статьи запрещено распространение информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления при совершении различных гражданско-правовых сделок.
Под запрет на использование ее в качестве встречного предоставления подпадают и сделки по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. Исключение цифровой валюты в качестве средства платежа за передаваемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги не означает, что под закрепленные в законе ограничения «не попадают операции, связанные... с приобретением информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (выделено нами. — Л. В.), — указанные объекты имеют особую правовую природу и их приобретение (отчуждение) не подпадает под запрет на расчеты в цифровой валюте»17. С приведенным выводом А. А. Ситника сложно согласиться. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) как нематериальные объекты не подпадают под вещно-правовой режим, поэтому отчуждаются не РИД, а исключительные права на них (ст. 1234, 1235, 1285, 1286, 1288 ГК РФ). Только исключительные права на РИД, а не сами РИД становятся товаром и в юридическом смысле как товар становятся предметом гражданско-правовых договоров — договоров об отчуждении исключительного права на РИД (ст. 1234,1285 ГК РФ), лицензионных договоров (ст. 1235, 1286 ГК РФ), договоров авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ). Это означает, что оборот исключительных прав, так же как и оборот вещей, подпадает под соответствующие ограничения, установленные законодателем в ст. 14 Закона № 259-ФЗ, и возмездность указанных договоров исключает использование цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемое исключительное право на РИД18.
Цифровой рубль (согласно Докладу Банка России), в отличие от цифровой валюты по Закону № 259-ФЗ, будет выполнять «все функции денег — средства обращения (платежа), меры стоимости и средства сбережения»19, таким образом, в отличие от цифровой валюты, он будет выступать законным средством платежа, «общедоступным платежным инструментом»20.
4. Цифровая валюта (по Закону № 259-ФЗ) есть самостоятельный объект гражданских прав, ограниченный в обороте, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона № 259-ФЗ допускается «совершение гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры». Речь идет о возможности совершения с ней распорядительных сделок — об отчуждении ее на возмездной или безвозмездной основе, о передаче ее в залог, о возможности завещать либо распорядиться ею иным образом с соблюдением всех правил, предусмотренных статьей 14 Закона № 259-ФЗ. Следовательно, цифровая валюта рассматривается законодателем как определенная экономическая ценность товарного характера, обладающая оборотоспособностью.
Цифровой рубль при реализации Банком России вышеобозначенных подходов к его трактовке можно будет рассматривать, в отличие от цифровой валюты (по Закону № 259-ФЗ), как оборотоспособный объект гражданских прав.
5. Цифровая валюта (по Закону № 259-ФЗ) как объект гражданского оборота является по своей юридической природе безналичным денежным средством (с экономической точки зрения речь идет о так называемых безналичных деньгах). При исключении возможности ее рассмотрения в качестве законного средства платежа цифровая валюта как цифровой код тем не менее в случае договоренности между частными лицами может использоваться в качестве платежного средства, что определяется, прежде всего, волей участников имущественного оборота, их готовностью и техническими возможностями совершения операций с цифровой валютой в информационной системе. Отсутствие запрета на ее оборот в качестве «частного» платежного средства, по сути, означает легализацию ее в этом качестве многими государствами, в том числе и Россией. Более того, допуская по сделкам ее переход от одного лица к другому, законодатель относит ее к определенной разновидности имущества — имущественному праву требования. В этом — особенность правовой природы цифровой валюты, что и оправдывает подход законодателя к рассмотрению ее и в качестве инвестиций (ч. 3 ст. 1 Закона № 259-ФЗ).
Очевидно, такое понимание цифровой валюты исключает возможность ее трактовки не только в качестве вещи (наличных денег), но и наличия у обладателя цифровой валюты титула на нее. Поэтому утверждения авторов (например, А. А. Ситника21) о праве собственности на цифровую валюту, о возможности ее виндикации есть не что иное, как искажение гражданско-правовой сущности и природы цифровой валюты. Виндицировать, как известно, можно только индивидуально-определенную вещь в случае доказательства истцом своего титула (права собственности) на нее.
Цифровой рубль по своей юридической природе, в отличие от рубля (наличных денег), не может быть отнесен к вещам (ст. 128 ГК РФ). С гражданско-правовой точки зрения не может быть и речи о праве собственности на цифровые рубли, о защите права собственности его обладателя, в том числе и виндикации цифрового рубля. Как объект гражданских прав он по своей юридической природе, как и цифровая валюта, относится к безналичным денежным средствам. Это вытекает из особенностей выпуска цифрового рубля и его введения в гражданский оборот: он эмитируется Банком России с помощью цифровых технологий и представляет собой цифровую запись на именном цифровом счете обладателя цифрового кошелька (цифровой аналог определенной денежной суммы, внесенной в цифровой кошелек). В Докладе Банка России выделены четыре модели (А, В, С и D) взаимоотношений ЦБ РФ, банков / финансовых посредников с держателями цифровых кошельков (физическими и юридическими лицами) по открытию кошельков и осуществлению по ним расчетов. Эти модели представлены в концепции в самом общем виде и различаются между собой, прежде всего, тем, кто — ЦБ РФ или банки / финансовые посредники — открывает и ведет кошельки клиентов, осуществляя по ним расчеты22. Чтобы стать обладателями цифрового кошелька и иметь доступ к цифровой валюте Центрального банка (ЦВЦБ), физические и юридические лица должны зарегистрироваться в новой платежной системе — платформе ЦВЦБ. Это происходит (в зависимости от принимаемой Банком России модели) через оформление соответствующего договора с ЦБ РФ или банком / финансовым посредником. Так, модель «В» (ЦБ РФ открывает и ведет кошельки клиентов на платформе ЦВЦБ) предусматривает, что Банк России предоставляет прямой доступ к ЦВЦБ физическим и юридическим лицам, предусматривает возможность «открытия расчетных счетов клиентов и расчетно-кассовое обслуживание без открытия счета для проведения расчетов в ЦВЦБ»23. По модели «С» «банки / финансовые посредники выступают в качестве посредников, инициируют открытие кошельков клиентов и осуществление по ним расчетов»24. Для граждан «операции с цифровым рублем могут быть аналогичны использованию электронных кошельков или платежных приложений (рау-сервисов и осуществляться через специальное приложение или с использованием существующих средств дистанционного банковского обслуживания (онлайн- или мобильные банки)... Граждане смогут оперативно пополнять свои средства в цифровом рубле (за счет денежных средств с банковского счета или карты...)...»25. Следовательно, обратим внимание, речь идет о привязке цифрового кошелька к банковскому счету, открываемому либо ЦБ РФ, либо банком.
Реализация на практике одной из моделей даст возможность уяснить, к кому держатель цифрового кошелька вправе предъявить право требования произвести соответствующие выплаты — Банку России или банку, открывшему и ведущему кошелек. Очевидно, речь идет о цифровом рубле, который в юридическом смысле является правом требования лиц, заключивших с ЦБ РФ или определенным банком договор об открытии, о ведении цифрового кошелька и совершении операций с цифровым рублем. Речь идет о цифровых безналичных денежных средствах — правах требования, возникающих на основании договора об открытии и о ведении цифрового кошелька и выступающих элементом содержания правоотношения между банком и клиентом — держателем цифрового кошелька по осуществлению денежных расчетов в безналичном порядке.
На наш взгляд, в предложенном Банком России подходе к введению цифрового рубля в имущественный оборот много общего с реализованной на практике моделью расчетов с использованием электронных кошельков и предоплаченных смарт-карт26. Существенное отличие заключается в том, что платформа ЦВЦБ разрабатывается Банком России, от которого зависит принятие определенной модели, определяющей взаимоотношения регулятора (ЦБ РФ), банков / финансовых посредников и держателей цифровых кошельков.
6.Цифровая валюта как имущественное право требования, существуя в цифровой форме, является цифровым правом27, одной из его разновидностей. Следовательно, цифровую валюту следует квалифицировать как цифровой финансовый актив, поскольку согласно ч. 2 ст. 1 Закона № 259-ФЗ под «цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования...». Речь идет о цифровом денежном требовании. По мнению А. А. Ситника, «...цифровые финансовые активы и цифровые валюты достаточно сложно соотнести, поскольку первые являются цифровыми правами, а вторые — электронными данными, т.е. они имеют различную правовую природу»28. С этим сложно согласиться.
Цифровые финансовые активы как цифровые права и цифровая валюта как их разновидность существуют в одной форме — цифровой (электронной). Ранее уже отмечалось, что нет различий между понятиями «электронный» и «цифровой»: законодатель определяет цифровую валюту как «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения)». Это означает, что цифровые права и их разновидность — цифровая валюта существуют в виде цифрового кода или обозначения, то есть электронных данных. Сделанный нами вывод дает возможность уяснить, почему в определении понятия «цифровые финансовые активы» (ч. 3 ст. 1 Закона № 259-ФЗ) отсутствует указание на отнесение к ним цифровой валюты. Однако это вовсе не означает, что понятия «цифровые финансовые активы» и «цифровые валюты» достаточно сложно соотнести. В первоначальной редакции законопроекта №419059-7 криптовалюта рассматривалась как разновидность цифровых финансовых активов, хотя криптовалюта и цифровая валюта — не тождественные понятия. Неслучайно в Законе № 259-ФЗ это положение было удалено.
Цифровой рубль как безналичное денежное средство (в цифровой форме) выступает имущественным (обязательственным) правом и вне сомнения подпадает под гражданско- правовую квалификацию цифрового права, его разновидности (ст. 140.1 ГК РФ), однако в Докладе об этом нет ни слова, что объяснимо: Банк России представил экономическую концепцию, а следовательно, в ней нет места для правовых категорий.
7. Цифровая валюта (по Закону № 259-ФЗ), в отличие от криптовалюты, не является денежным суррогатом. Ранее отмечалось, что она является объектом гражданского оборота — цифровым имущественным (денежным) правом, выступающим и в качестве инвестиций. В отличие от криптовалюты, в соответствии с ч. 4 ст. 14 Закона № 259-ФЗ организация выпуска и (или) выпуск цифровой валюты, а также организация ее обращения в Российской Федерации, регулируется в соответствии с федеральными законами. Это означает, что, в отличие от криптовалюты, цифровая валюта как цифровые «безналичные деньги» (имущественные права требования), выпуск и обращение которых осуществляется частными лицами, изначально с момента ее выпуска находится в установленном законодателем «правовом поле», поскольку регулирование ее обращения изначально должно находиться под контролем органов государственной власти29.
Цифровой рубль (по Докладу Банка России), так же как и цифровая валюта (по Закону № 259-ФЗ), должен выступить законным средством платежа. Если выпуск и обращение цифровой валюты осуществляется частными лицами, то выпуск и обращение цифрового рубля — Банком России.
Если сравнивать криптовалюту с цифровой валютой (по Закону № 259-ФЗ) и цифровым рублем (по Докладу Банка России), то с экономической точки зрения речь идет о разновидности цифровых денег, а с гражданско-правовой — о денежном суррогате.
Существуя в информационной системе, криптовалюта (при использовании блокчейн- технологии) визуализируется в ней в человекочитаемой форме в виде числа, фиксирующего количество определенных расчетных единиц и записываемого в цифровом пакете протокола передачи данных в рамках распределенного реестра информационной системы30. По мнению А. В. Варнавского, речь идет о расчетной единице измерения ресурса, понимаемого с экономической точки зрения не как физический объект, а как «цифровое отражение возможностей» использования данного объекта31. Это, по существу, означает, что криптовалюта как цифровое отражение указанных возможностей, в отличие от цифрового рубля, не может рассматриваться в качестве мерила стоимости товара, не может выступать стоимостным мерилом овеществленного человеческого труда, поскольку зависит исключительно от конъюнктурных соображений, предопределена субъективными моментами, а именно потребностями и денежными интересами ее создателей — частных лиц преумножить свои доходы. Следовательно, создание в информационной системе криптовалюты происходит без какой бы то ни было привязки к стоимости товара (меновой и потребительной), а имущественная ценность этой абстрактной единицы измерения использования объекта ничем не обеспечивается.
«Устойчивое функционирование цифрового рубля в интересах граждан и бизнеса», как отмечается в Докладе Банка России, «обеспечивается государством в лице Центрального банка...»32. Этот подход согласуется с нормой ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в которой указано, что наличные деньги (валюта) являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются его активами. Однако рассматривать цифровой рубль как «электронное обязательство ЦБ (выделено нами. —Л. В.), номинированное в национальной денежной единице...»33 юридически некорректно, поскольку в гражданском праве не выделяется такой вид обязательства. По существу, это означает одно — за пределами платформы цифрового рубля обязательства Банка России не существует, поскольку оно электронное! А в чем суть этого электронного обязательства? Чем оно отличается от безусловного обязательства применительно к наличным деньгам? С. А. Андрюшин этого не объясняет. Если исходить из экономической трактовки цифрового рубля как формы денег при неизменности содержания и сути денег, тогда становится очевидным, что независимо от смены формы денег безусловность (не электронного по своей сущности) обязательства ЦБ РФ должна сохраняться. С юридической точки зрения эти рассуждения некорректны. С легализацией Банком России цифрового рубля и введением его в имущественный оборот, как уже отмечалось, держатели цифровых кошельков, заключившие с банком договор об открытии и ведении цифрового кошелька, вправе предъявить к нему право требования произвести соответствующие операции с цифровым рублем. Если этот договор заключается в электронной форме, это вовсе не означает, что он порождает электронное обязательство.
Очевидно, относясь к цифровым деньгам, криптовалюта является антиподом цифрового рубля, поскольку ее оборот осуществляется в рамках глобальной, децентрализованной по своей сути цифровой платежной системы частных лиц, выходящей за пределы территории любого государства. При отсутствии реального обеспечения она с гражданско-правовой точки зрения не может рассматриваться ни как иностранная валюта, ни как национальная валюта (наличные деньги), представляя собой лишь денежный суррогат.
Обратим внимание, что экономическая концепция цифрового рубля противоречива и в терминологической части: цифровой рубль часто обозначается в Докладе Банка России как цифровая валюта34, а цифровая платформа ЦБ РФ — как платформа цифровой валюты Центрального банка35. Если с экономической точки зрения признать цифровой рубль цифровой валютой, то становится очевидным, что понимание цифровой валюты в Докладе Банка России противоречит, по существу, всем предписаниям о цифровой валюте по Закону № 259-ФЗ.
Обозначенные выше особенности цифровой валюты (по Закону № 259-ФЗ) дают возможность сделать вывод о том, что экономическое понимание цифрового рубля как «третьей формы российской валюты», представленное в Докладе Банка России, существенно отличается от трактовки цифровой валюты по Закону № 259-ФЗ, что, на наш взгляд, требует корректировки и приведения в соответствие рассогласованных подходов законодателя и Банка России в отношении одного и того же правового феномена — цифрового рубля, что в конечном счете должно найти отражение в действующих нормативных правовых актах — ГК РФ, Законе № 259-ФЗ, Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и др.
На наш взгляд, в настоящее время — период тестирования в России банками платформы цифрового рубля — встает вопрос о гражданско-правовой проработке указанной проблемы. Речь идет, прежде всего, о недопустимости «протаскивания» в цивилистические исследования о цифровом рубле чуждого науке гражданского права экономического инструментария, механистическое использование которого приводит к искажению сути правовых понятий и явлений. Следует согласиться с мнением А. В. Габова и признать, что правовая часть концепции цифрового рубля — это, по существу, сегодня «пустое место» Доклада Банка России36. К сожалению, таковой она остается и по сей день.
БИБЛИОГРАФИЯ
- Андрюшин С. А. Цифровая валюта Центрального банка как третья форма денег государства //Актуальные проблемы экономики и права. — 2021. — Т. 15. — № 1. — С. 54-76.
- Варнавский А. В. Токен или криптовалюта: технологическое содержание и экономическая сущность // Финансы: теория и практика. — 2018. — № 5. — С. 122-140.
- Василевская Л. Ю. Гражданско-правовой режим цифровых денег: проблемы определения и толкования // Хозяйство и право. — 2021. — № 4. — С. 3-18.
- Василевская Л. Ю., Подузова Е. Б., Тасалов Ф. А. Цифровизация гражданского оборота: проблемы и тенденции развития (цивилистическое исследование): монография : в 5 т. Т. 1. отв. ред. Л. Ю. Василевская. — М.: Проспект, 2021. — 288 с.
- Габов А. В. Цифровой рубль Центрального банка как объект гражданских прав //Актуальные проблемы российского права. — 2021. — № 4. — С. 55-65.
- Ситник А. А. Цифровые валюты: проблемы правового регулирования //Актуальные проблемы российского права. — 2020. — № 11. — С. 103-113.
- Турбанов А. В. Цифровой рубль как новая форма денег//Актуальные проблемы российского права. — 2022. - № 5. - С. 73-90.
Материал поступил в редакцию 12 декабря 2022 г.
REFERENCES
- Andryushin SA. Tsifrovaya valyuta Tsentralnogo banka как tretya forma deneg gosudarstva [Digital currency of the Central Bank as the third form of money of the state], Russian Journal of Economics and Law. 2021;15(l):54- 76. (In Russ.).
- Varnavsky AV. Token ill kriptovalyuta: tekhnologicheskoe soderzhanie i ekonomicheskaya sushchnost [Token Money or Cryptocurrency: Technological Content and Economic Essence], Finance: Theory and Practice. 2018;5:122-140. (In Russ.).
- Vasilevskaya LYu. Grazhdansko-pravovoy rezhim tsifrovykh deneg: problemy opredeleniya i tolkovaniya [The civil law regime of digital money: problems of definition and interpretation]. Business and Law. 2021;4:3-18. (In Russ.).
- Vasilevskaya LYu, Poduzova ЕВ, Tasalov FA. Tsifrovizatsiya grazhdanskogo oborota: problemy i tendentsii razvitiya (tsivilisticheskoe issledovanie): monografiya: v 5 t. [Digitalization of civil turnover: problems and development trends (civil research): monograph: in 5vols], Vol. 1. Vasilevskaya LYu, editor. Moscow: Prospect Publ.; 2021. (In Russ.).
- Gabov AV. Tsifrovoy rubl Tsentralnogo banka как obekt grazhdanskikh prav [A digital ruble of the Central Bank as a civil rights object], Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2021;4:55-65. (In Russ.).
- Sitnik AA. Tsifrovye valyuty: problemy pravovogo regulirovaniya [Digital currencies: problems of legal regulation]. Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2020;11:103-113. (In Russ.).
- Turbanov AV. Tsifrovoy rubl как novaya forma deneg [A digital ruble as a new form of money], Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2022;5:73-90. (In Russ.).





