Ограничение прав человека или поиск их естественных пределов?
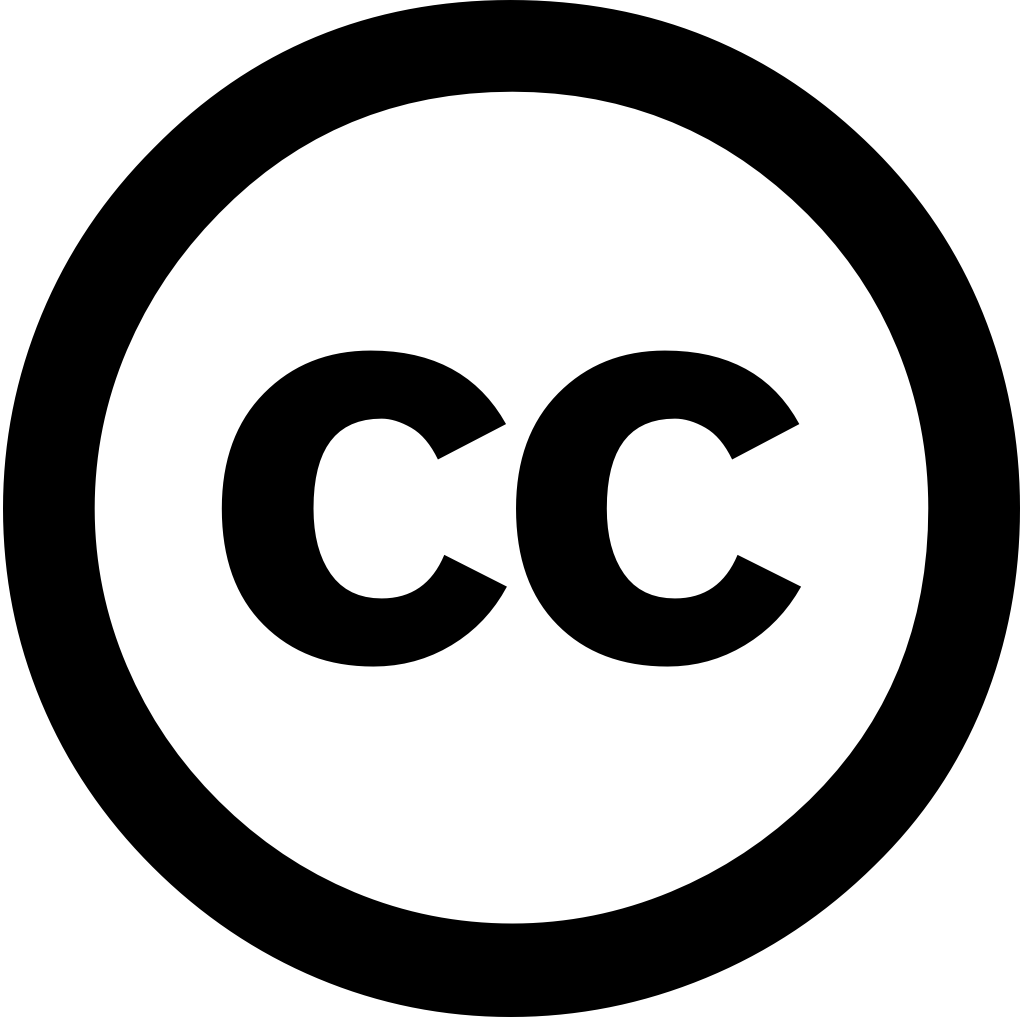

Опубликована Апрель 1, 2009
Последнее обновление статьи Апрель 9, 2023
Аннотация
Ограничение прав человека или поиск их естественных пределов?
Ключевые слова
Права человека, пределы, ограничения
Международные пакты ООН о гражданских и политических и об экономических, социальных и культурных правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод предоставляют законодателю возможность ограничивать такие права в определенных целях — защиты безопасности государства, здоровья и жизни, нравственности, прав других людей и т.д. Конституция РФ, следуя этому общепризнанному принципу, в ч. 3 ст. 55 устанавливает: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Однако как бы ни был высок авторитет данных актов, представляется, что мы имеем дело с неточно употребляемой терминологией, что, по-видимому, связано с не вполне верным пониманием категории «права человека».
В настоящей статье предпринята попытка обосновать и развить эту позицию на примере личных прав и свобод, прежде всего права на жизнь. Но перед этим считаю своим долгом упомянуть, что толчок к размышлениям в данном направлении дал мой аспирант И.Ю. Николашин, когда мы обсуждали некоторые принципиальные проблемы при подготовке им диссертации на тему «Конституционно-правовое содержание понятия “защита нравственности”».
Зачем менять терминологию?
В конституционном праве известна концепция имманентных пределов прав, которая была сформулирована германским Федеральным Конституционным судом. Смысл ее в том, что «ограничения основных прав1 могут быть обоснованы только самой Конституцией»2. В отличие от конструкции «общего ограничения», на основе которой сформулирована ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, концепция имманентных пределов в практическом плане привлекательнее тем, что признает лишь те законодательные ограничения, которые установлены в формулировках конституционных положений о конкретных правах и свободах. Однако и концепция имманентных пределов в теоретическом плане небезупречна, поскольку, согласно ей, сама конституция фактически считается источником основных прав. А ведь, раз эти пределы действительно внутренне присущи (имманентны) правам, значит, конституция ни сама их не может ограничить, ни делегировать законодателю полномочие по их ограничению.
Впрочем, в отношении некоторых прав конституцию, наверное, действительно можно признать юридическим источником. Например, по мнению известного венгерского конституционалиста и судьи Европейского суда по правам человека А. Шайо, социальные права являются не традиционными правами, а «интересами льготополучателей, обусловленными услугами, предоставленными государством»3. Но конституцию никак нельзя признать источником, по крайней мере, фундаментальных прав, обеспечивающих свободу и достоинство человека, его личную автономию. Эти права и свободы потому и называются естественными, что существуют до их конституционного признания. Разумеется, государство и пальцем не пошевелит вне позитивного регулирования. Но сейчас речь идет о теоретическом понимании.
Идее имманентных пределов, на мой взгляд, в большей степени соответствует мнение Б.С. Эбзеева: «В частности, закрепляя свободу собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, Конституция одновременно оговаривает, что гарантируется «право собираться мирно, без оружия» (ст. 31). В данном случае не ограничиваются основные права, а определяются их границы, нормативное содержание и круг правомочий (курсив мой. — М.К), т.е. имманентные пределы»4. Правда, слово «определяются» здесь фактически дезавуирует смысл верно сделанного вывода, поскольку посредством конституционного и законодательного регулирования прав человека их границы не определяются, а лишь происходит юридическая экспликация (формализованное выявление) изначально существующих границ, т.е. естественных пределов этих прав. Такая экспликация на практике, конечно, может быть и ошибочной; может быть полной или неполной; наконец, может действительно ограничить то или иное основное субъективное право, но уже в негативном смысле, т.е. умалить право. Однако это будет свидетельствовать именно и только о «некачественной экспликации», обусловливаемой разными факторами — особенностями устройства публичной власти, характером политического режима, юридической квалификацией законодателя, готовностью общества отстаивать свои права и т.п.
В то же время нелепо отрицать, что ограничения допустимы и даже необходимы. Но только при реализации прав на основании конституционно и законодательно установленных условий и порядка. Интересно, что из всех международно-правовых актов о правах человека только Всеобщая декларация прав человека 1948 г. (ст. 29) употребляет слово «ограничение» исключительно в этом смысле: «При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе»5.
Разницу между понятиями «ограничение прав» и «ограничения при осуществлении прав» другие основные международно-правовые акты о правах человека «не чувствуют», в них эти понятия произвольно перемежаются. А ведь это разные правовые явления. В одном случае речь идет о легализации пересмотра естественных пределов прав, что, на мой взгляд, недопустимо, во втором — о необходимости учета ситуаций, выходящих за рамки ординарных, и вызываемых как волевыми актами самих носителей прав, так и объективными обстоятельствами. Можно выделить три случая таких ограничений.
Первый — это индивидуальные (казуальные) ограничения в ходе правоприменительной (административной и судебной) практики:
- в качестве меры пресечения правонарушения;
- в процессе оперативно-розыскных мероприятий;
- в качестве меры ответственности (наказания) за правонарушение;
- в качестве санкции за нарушение правомочий в рамках осуществляемого субъективного права.
Второй случай — это временное ограничение прав в условиях особого административного режима', чрезвычайного и военного положения, карантина, режима чрезвычайной ситуации, режима контртеррористической операции.
Третий случай — это «статусные» ограничения'.
- в отношении некоторых категорий людей, добровольно принимающих ограничения вместе с определенным правовым статусом (лучше сказать, модусом) — лиц, занимающих государственную или муниципальную должность, государственных или муниципальных служащих;
- в отношении людей, в зависимости от состояния их здоровья, возраста, пола и т.п., что, естественно, определяется законом, а иногда требует еще и судебного решения (например, при ограничении дееспособности).
Но так ли уж важно, каким термином описывается процесс экспликации? Как правило, конституции содержат твердые пределы законодательного «ограничения прав». Та же ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ставит своего рода двойной заслон перед потенциально существующей опасностью государственного произвола: первый — формальный (ограничивать права и свободы можно не любым юридическим актом, а только законом) и второй — содержательный (ограничивать права и свободы можно не вообще, а только ради определенных целей). Главное, в той же статье (ч. 2) провозглашается общий принцип «ограничительной» компетенции законодателя: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Еще более очевидные границы
законодательной компетенции проводит абз. 2 ст. 19 Основного закона ФРГ: «Существо содержания основного права ни в каком случае не может быть затронуто».
Конечно, можно было бы примириться с неточным словоупотреблением «ограничение прав», если бы оно порождало безобидную путаницу. Например, такую: П. Лерхе, комментируя приведенную норму абз. 2 ст. 19 Основного закона ФРГ, пишет, что «позитивно выраженному абсолютному запрету вносить какие-либо изменения в основное право практически нельзя следовать»6, но, как далее выясняется, относит свой скепсис не к этой норме, а фактически к индивидуальным ограничениям7. Однако это неточное словоупотребление порождает серьезные искажения в понимании прав человека. Так, Б.С. Эбзеев, верно указав на то, что конституционное описание границ основных прав не представляет собой их ограничение, тем не менее считает, что в собственно конституционно-правовом смысле «имеются в виду допускаемые Конституцией и установленные федеральным законом изъятия из конституционного статуса человека и гражданина (курсив мой. — М.К.)»8. Но при таком подходе теряет свой смысл сама идея имманентных пределов. В конце концов, какая разница для человека, каким правовым актом будет произведено это самое изъятие', конституцией или законом?
Таким образом, первый аргумент в пользу переосмысления применения термина «ограничение прав» можно сформулировать словами выдающегося итальянского экономиста и социолога В. Парето, заметившего, что «если один и тот же термин понимается в различных смыслах, то любое строгое рассуждение становится невозможным»9.
Второй аргумент состоит в том, что применение одного и того же термина к разным, хотя и внешне схожим, правовым (политико-правовым) явлениям, затрудняет обнаружение реальных причинно-следственных связей. Это, в свою очередь, порождает ошибочный выбор средств правового регулирования и нейтрализации всевозможных девиаций, особенно на фоне довольно бурно протекающего процесса, получившего название «разрастание прав».
А. Шайо видит проблему в том, что «разрастание прав привело к их перенасыщению и к новому конфликту между ними, а это потребовало все большего и большего регулирования и избирательного подхода»10. Для иллюстрации он приводит дело о кормлении голубей, рассмотренное германским Конституционным судом. Истица была оштрафована за нарушение запрета властей одного из городов Баварии, введенного из соображений сохранения общественного здоровья. В процессе истица утверждала «конституционную свободу кормления голубей». По свидетельству А. Шайо, Суд не возражал против трактовки права кормить голубей как права конституционного11.
Проблема, однако, не только и не столько во все большей дифференциации прав, которая действительно усугубляет старую и теоретически так и не решенную проблему конфликта между разными правами и свободами. Гораздо более важно, что недостаточно ясное понимание естественных пределов прав, т.е. их смысла и содержания ведет либо к появлению (порой официальному признанию) «странных прав», дискредитирующих саму идею прав человека, либо к неоправданному расширению их содержания.
Э. и X. Тоффлер в своей новой книге прогнозируют близкое будущее, образ которого можно определить как «размывание всяческих границ», в том числе естественных: «Возьмите, например, Рики Энн Уилкинса, компьютерного эксперта с Уолл-стрит, которого “Нью-Йорк тайме” назвала “транссексуалом, хирургически превращенным из мужчины в женщину”. Уилкинс возглавляет группу, которая лоббирует в Вашингтоне интересы меньшинств и заявляет, что разделение людей по половому признаку на “он” и “она”уже само по себе репрессивно, поскольку принуждает брать на себя ту или иную роль тех, кто не относится ни к тем, ни к другим»12. Авторы избегают оценок, но общий смысл их книги можно обозначить фаталистичной формулой: «Хотим мы того или не хотим, но придется смириться с новым образом мира». Как они сами говорят, «те, кто недооценивает революционного характера нынешних изменений, живут среди иллюзий»13.
Мир, конечно, радикально изменился (даже в сравнении с революционным XIX в.) и будет меняться, наверное, еще быстрее. Меняется и отношение человека к миру и другим людям. Но разве это основание для фатализма? Разве homo не есть sapiens, чтобы не видеть черту, преступив которую, он не просто изменит, а разрушит социум? Права человека, рожденные как проявление благородной идеи равного уважения достоинства каждого, возвышения человеческого духа, могут стать и формальной основой легитимации самых темных сторон человеческой психики. Что может отвести эту угрозу? Прежде всего и главным образом, понимание того, что сама категория прав человека сохраняет свой содержательный смысл только до тех пор, пока осознаются их естественные пределы.
Ориентир в поиске естественных пределов
Естественные пределы, хотя и существуют объективно, в любом случае выявляются и формулируются людьми. В таком случае, что их удержит, если в своем стремлении соответствовать новым условиям жизни они решат, что эти пределы раньше трактовались слишком узко? Что помешает внести изменения в международноправовые акты, конституции и законодательство под предлогом снятия устаревших «ограничений» (как тут не вспомнить концепцию имманентных пределов)? Помешать этому процессу могут три шага к более глубокому пониманию прав человека.
Первый шаг — принятие (лучше официальное) аксиомы, что эти права онтологически ограничены естественными пределами. Значение этих пределов таково, что, оказываясь за ними (вне их), та или иная охраняемая правом ценность теряет смысл и уничтожается само субъективное право.
Второй шаг — осознание того, что естественные пределы невозможно определить без столь же естественной нормы (разумеется, понимаемой не в юридическом, а в широком социально-этическом смысле). Проиллюстрирую это текстом ст. 2 Европейской конвенции (курсив в цитате мой. — М.К.):
«1. Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание.
- Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является результатом абсолютно необходимого применения силы'.
- для защиты любого лица от противоправного насилия;
- для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, задержанного на законных основаниях;
- для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа».
Мы видим, что обе части данной статьи говорят о случаях допустимости лишения человека жизни. Ограничивается ли таким образом право на жизнь? Нет. Конвенция только описывает естественные пределы данного субъективного права, представляющие собою условия, при которых лицо теряет государственную защиту, во всяком случае, в ее полном объеме. При этом документ фактически вводит презумпцию нормы', человек защищен государством до тех пор, пока сам, проявив свободную волю, не выйдет за пределы общей нормы.
Прообразом такого подхода, первой моделью живого права служит трагический сюжет грехопадения человека. Ведь можно сказать, что Адаму (затем и Еве) Богом изначально было дано право на вечную жизнь, в содержание которого входило и вечное блаженство. И предел, который Бог положил этому праву, был всего один и притом простейший: не вкушать от древа познания добра и зла. В данном случае это был и предел, и норма. Нарушение предела, т.е. выход из нормы повлек за собой, замечу, не лишение жизни наших прародителей, а «всего лишь» отказ Бога обеспечивать «право вечной жизни». Другими словами, только свободная воля человека повлекла снятие, хотя и не полное, Божественной защиты. Адам и Ева прожили еще около тысячи лет, но уже как смертные.
Именно этическая норма является ориентиром в поиске и отстаивании естественных пределов фундаментальных естественных прав (прежде всего на жизнь, личную свободу, телесную неприкосновенность, тайну частной жизни). Но откуда берется сама эта норма?
Наличие у человека определенных моральных аксиом (категорических императивов) принято объяснять социализацией личности. Тогда что лежит в основе самой социализации? В евро-атлантической цивилизации, к которой, без сомнения, принадлежит Россия (при всем ее своеобразии), такая основа — принципы христианства. Осознание этого и составляет третий шаг. Правда, по мере процесса секуляризации все менее и менее принято вспоминать о такой основе. Поначалу затушевывание, в основном, было связано с примитивным противопоставлением религии и науки, а теперь добавился еще и «фактор политкорректности»14. Тем не менее, никуда не уйти от факта, что наша цивилизация возникла и развивалась как цивилизация христианская. Это означает, что европейские народы постепенно воспринимали не только христианское вероучение и миропонимание, но и христианскую этику.
В свою очередь, христианство (как и две другие аврамические религии — мусульманство и иудаизм) не реципировало фундаментальные этические принципы Ветхого завета (например: Исх. 20:2-17; Лев. 19:1-37; Втор. 5:1-21), а считает их своими. Догматическая основа этого содержится в словах Спасителя: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17). Тут принципиально важно, что «исполнение закона и пророков» имеет два смысла. Первый состоит в том, что Сам Иисус есть исполнение возвещенного через ветхозаветных пророков Божественного обещания прихода Мессии (Христа, Спасителя). Второй смысл — в том, что вочеловечившийся Бог Сам есть совершенный образец соблюдения (исполнения), прежде всего, Декалога, т.е. этических принципов (основных заповедей), а не множества формальных норм («бремена неудобоносимые» — Лк. 11:46), которыми эти принципы обросли за многие века.
И все же Христос дал человечеству радикально новую этическую систему: сохраняя фундаментальные принципы и соответствующие им нормы, Он вводит понятие нравственного совершенства. Почему сферы правового и нравственного регулирования до Христа фактически совпадали? Главным образом потому, что нравственный уровень людей, за исключением немногих праведников, был еще настолько невысок, что сначала требовалось дать им правовой закон как простейший внешний ограничитель. Этот внешний ограничитель фактически совпадал с внутренним — моральным. И вот, Спаситель резко поднимает планку нравственности, оставляя праву лишь закрепить нравственный минимум, но не совершенство. Отвечая фарисеям на лукавый вопрос о причинах развода и их ссылку на то, что «Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею», Иисус Христос говорит: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф. 19:3-9).
Сфера нравственности не только предполагает гораздо больший поведенческий выбор, нежели право, но и иную цель — совершенство15. Особенно это видно в Нагорной проповеди, где Христос, хотя и применяет формулу логического противопоставления: «Вы слышали, что сказано древним.., а Я говорю вам» (см.: Мф. 5), не отменяет ветхозаветным «нормативный» минимум, а только провозглашает критерии совершенства. Собственно, эта проповедь заканчивается словами: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
Следовать или нет образцам совершенства — дело свободной воли человека, ответ на призыв Бога или собственной совести, но никак не ответ на требование права. Б.П. Вышеславцев, споря с Фихте, очень тонко показал, что свобода не исчезает вместе с выбором. Но христианство отличается от всех других мировоззренческих и этических систем еще и тем, что идею совершенства воедино связывает с идеей любви — к Богу и ближнему. Вышеславцев пишет: «Бог хочет, чтобы мы исполняли Его волю (и в этом смысле хочет повиновения), однако же не как рабы, не как наемники, а как друзья и сыны (и в этом смысле не хочет простого повиновения). Бог хочет любви, а во всякой любви есть свободное избрание, во всякой любви есть сочетание двух воль и двух свобод. «Да будет воля Твоя» есть выражение любви к Отцу, к высшему и ценному, Тому, Кто стоит надо мною и потому может сублимировать мою волю. Если ничего и никого нет надомною (курсив в цитате мой. — М.К.), тогда сублимация (т.е. превращение одного состояния в другое. — М.К.) невозможна. Если надо мною абсолютная власть, императив, закон — тогда сублимация тоже невозможна, ибо свобода не покоряется диктатуре «категорического императива». Отношение Бого-Сыновства есть единственный адекватный символ сублимации: «свыше», от Отца, от иерархически высшего, исходит призыв. Сын отвечает на этот «призыв» свободной любовью. На приказ тирана он ответил бы отказом в повиновении»16.
В то же время, хотя Бог призывает стремиться к совершенству, не обусловливает Свою награду достижением такого состояния. На вопрос богатого юноши, что ему нужно сделать, чтобы иметь вечную жизнь, Иисус Христос перечисляет заповеди из Декалога (Мф. 19:16-19). Только ради совершенства Он советует раздать нищим имущество и следовать за Ним (Мф. 19: 21). Перед нами, таким образом, цепочка нравственного восхождения. На каком звене этой цепочки застанет человека смерть, неизвестно. Но возможность и надежда даны всем. В конце концов, сказал же Христос распятому рядом с Ним разбойнику: «...истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23: 43). Эта великая награда была дана не за совершенство, а только за первый шаг — признание Бога в распятом Иисусе и искреннее раскаяние...
Почему об этом здесь говорится? Потому, что современное право (в объективном смысле), обрисовывая пределы субъективных прав, зиждется на ветхозаветной этической системе, отсюда оно берет понятие нормы. Но нормы, повторю, нравственно минимальной. Принципиальный момент: современное право не входит и не должно входить в оценку меры соблюдения человеком христианских заповедей, являющихся нравственной вершиной (применительно к праву на жизнь, в первую очередь такой, как: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» — Ин. 15:13).
Одним из тех мыслителей, кто наиболее жестко разделял право и нравственность был Б.Н. Чичерин. Как свидетельствуют исследователи, он в некотором смысле даже противопоставлял их17. Неужели это было провозвестие морального релятивизма? Нет. Противопоставление права и нравственности у Чичерина только феноменологическое, оно предназначено для защиты двух форм автономии личности18. Эти две формы личной автономии вытекают из его концептуального разграничения свободы на внутреннюю и внешнюю. В сфере нравственности «инстанцией оценки» является собственная совесть человека, которая «есть самое свободное, что существует в мире; она не подчиняется никаким внешним побуждениям»19. Поэтому, «когда внешняя власть вторгается в область, которая может определяться только совестью, она преступает границы своего права»20.
Чичерин исходил из того, что свобода есть самоопределение, а потому человек может и уклониться от исполнения нравственного закона. Следовательно, невозможно искоренить свободу зла, не искоренив свободу вообще21. Под «искоренением свободы зла» Чичерин понимал попытки государства юридически регулировать нравственность. Он прямо говорил о том, что дополнение права нравственными требованиями превращает их в общеобязательные под страхом наказания, лишает человека нравственного выбора22.
Однако стремясь, и совершенно справедливо, оградить внутреннюю свободу человека от внешних посягательств23, Чичерин отрицательно относится к понятию «общественная нравственность». Как пишет исследователь его творчества С.Л. Чижков, «Чичерин постоянно противодействует любым попыткам превратить нравственность в общественную нравственность, любым попыткам представить личную нравственность как выражение неких общественных норм»24. С этим трудно согласиться.
Без сомнения, государству не должно быть дела до того, как проживает человек свою жизнь; оно не отвечает, да и не имеет такой возможности, за содержательное наполнение индивидуальных жизней, а в понятийном аппарате права закономерно отсутствуют термины «праведность», «добродетель», «совершенство», «грех», «покаяние» и т.п. Но любая государственность и соответственно позитивное право возможны только в контексте определенной этической системы. Выходя из этого контекста и возводя в абсолют толерантность — сам по себе прекрасный принцип, — секулярное правопонимание грозит уничтожить благородные понятия прав человека, гуманизма, правового государства, ибо лишает их изначальной этической основы.
Включает ли право на жизнь «право на смерть»?
С этих позиций вернусь к праву на жизнь. Как с помощью этической нормы найти его естественные пределы? Помимо ординарных ситуаций его реализация встречает на своем пути и ситуации экстремальные. Их можно разбить на две группы.
К первой относятся ситуации, при которых легально допускается лишение человека жизни государством или другими людьми. В одних случаях такое допущение вытекает не просто из правомерного, а одобряемого поведения (участие военнослужащих в боевых действиях, выполнение служебного долга служащими правоохранительных органов25). В других — из неправомерного (преступного) поведения носителя данного права: либо в качестве наказания за преступление (смертная казнь), либо для пресечения преступного посягательства (условия, перечисленные ст. 2 Европейской конвенции), когда допустимым считается лишение жизни не только государством, но и другим человеком (в целях необходимой обороны).
Вторая группа включает в себя случаи распоряжения человеком собственной жизнью. Здесь возникает сложный вопрос: если общий смысл личных прав состоит в праве на защиту от вмешательства кого бы то ни было в сферу личной автономии, то разве распорядиться своей свободой, телесной неприкосновенностью, наконец, жизнью, не дело лишь самого человека? Говоря иначе, индифферентны ли личные права в своих естественных пределах к такому способу распоряжения ими, как отказ индивида от защищаемых этими правами ценностей? Формальная (отвлеченная) логика требует утвердительного ответа. Так, в статье Ю.А. Дмитриева и Е.В. Шленикой утверждается: «Конституционное установление права на жизнь логически (курсив в цитате мой. — М.К.) означает юридическое закрепление права на смерть»26. В рамках этой логики точно так же можно сказать, что право на личную свободу означает право быть рабом, а право на телесную неприкосновенность — право испытывать насилие, лишь бы было на то желание самого дееспособного индивида...
Нельзя не заметить, что здесь игнорируется принцип conditio sine qua поп (непременного условия). Без него логические рассуждения превращаются в софизмы, которыми действительно можно оправдать все, что угодно, но на основе которых социальная жизнь и право были бы невозможны. Если в логические построения не вводить названный принцип, т.е. применительно к правам человека исключить хотя бы одно непременное условие, то конструируемые силлогизмы оказываются ни на что не годными.
Первым из таких условий является неотъемлемость фундаментальных прав, которая означает, что их не только никто не вправе отнять или умалить, но и сам человек не может отказаться от них. Даже если некто публично об этом заявит, для государства он останется тем же правовым образом защищенным субъектом, т.е. государство будет обязано привлечь к ответственности всякого, кто воспримет такое «отречение» как сигнал, скажем, к насильственным действиям. Можно ли в таком случае утверждать, что права человека вовсе и не права, а, скорее, обязанности? Конечно, нет! Как констатирует немецкий исследователь Д. Лоренц, «Основной закон не запрещает самоубийство; праву на жизнь не корреспондирует конституционная обязанность жить, в том числе и как следствие обязанности по защите со стороны государства. Этому соответствует базирующийся на законе вывод о ненаказуемости покушения на самоубийство»27. Почему же тогда сотрудник полиции (милиции) обязан принять все меры для недопущения самоубийства в публичном месте? В России, насколько мне известно, в милицейских документах это связывается с предотвращением нарушения общественного порядка. В германском праве, как пишет тот же автор, это вытекает из государственной обязанности по защите28, а потому «государство прежде всего связано обязанностью предотвращать умышленное самоуничтожение, используя при этом полицейские и уголовно-правовые меры»29. Но если именно такова теоретико-правовая основа предотвращения самоубийства, то опять же, исходя из понятия субъективного права, не вправе ли индивид отказаться от распространения на него такой обязанности государства? Не будет ли навязывание государственной «услуги» действительно ограничением субъективного права?
Разрешить этот вопрос в рамках секулярной системы координат невозможно, т.е. невозможно игнорировать второе непременное условие — субъективное право имеет предел, основанный на норме, а не на болезненной аномалии. Права человека — это отнюдь не нравственно нейтральные притязания. Как писал выдающийся русский мыслитель И.А. Ильин, «ценность, лежащая в основании естественного права, есть достойная, внутренне-самостоятельная и внешне-свободная жизнь всего множества индивидуальных духов, составляющих человечество. Такая жизнь возможна только в виде мирного и организованного равновесия субъективных притязающих кругов; равновесия, каждому одинаково обеспечивающего возможность духовно-достойной жизни и потому нарушающего это равенство лишь в сторону справедливости»30. Ильин справедливо ставит в один ряд понятия внутренней самостоятельности, внешней свободы и достойной жизни. Это не означает, что морально недостойные действия лишают человека его неотъемлемых прав31. Речь идет только о нравственном фундаменте самих этих прав, о недопустимости воспринимать их с моральнорелятивистских позиций.
Проблему естественных пределов субъективных прав нельзя смешивать с проблемой запретного, допустимого и желаемого в нравственности. Для права существуют лишь те слова, поступки или бездействие людей, которые зримо (т.е. когда можно проследить причинно-следственную связь32) затрагивают права и интересы другого человека или публичный интерес. В этом специфика не только собственно права, предназначенного для регулирования определенных отношений (а отношений внутри человека быть не может), но и государства, не обладающего возможностями предотвратить то, что ему физически неподконтрольно (например, самоубийство человека, если оно совершается непублично). Поэтому бессмысленно в правовом контексте рассматривать и классифицировать разные ситуации распоряжения собственной жизнью, одни из которых свидетельствуют о подвиге, самопожертвовании, другие — именно о самоубийстве. В этом смысле Д. Лоренц не вполне точен, говоря об обязанности государства предотвращать «умышленное самоуничтожение». Следовало бы говорить именно о самоубийстве, под которым в разговорном языке понимается противоестественное самоуничтожение.
В то же время для права непосредственный интерес представляют пограничные ситуации распоряжения правом на жизнь. Интерес этот возникает постольку, поскольку лишение человека жизни по его желанию или желанию (согласию) родственников ставит вопрос о юридической ответственности третьих лиц, прежде всего (хотя и не только) врачей. Речь идет, главным образом, об эвтаназии неизлечимо больных, а также о таком способе прекращения жизненных функций, как отключение систем их искусственного поддержания.
Не имея ни возможности, ни должной квалификации для рассмотрения этих сложнейших проблем, ограничусь лишь утверждением, что их решение, т.е. по сути, разрешение конфликта ценностей, невозможно без понимания, где пролегают естественные пределы права на жизнь. Это понимание невозможно без включения в процесс анализа понятия естественной нормы которая определяется только в контексте определенной этической системы.
Тот же Д. Лоренц заметил: «Такие конфликты ценностей требуют нормативного разрешения. Законодатель не может перевести их в неправовую плоскость частного усмотрения, ни передать профессиональным организациям или объединениям, сформированным по интересам. Правда, требования профессиональной этики дают государству опору для оценки общественных ценностных представлений (курсив мой. — М.К.), и они как таковые формируют содержание юридических обязанностей»33. Поддерживая первую часть этой мысли, не могу в полной мере согласиться с последним тезисом. Профессиональная этика, разумеется, должна учитываться, но может иметь лишь дополнительное значение, ибо нет гарантий, что она сама не претерпела или не претерпит изменений, которые отдаляют ее от фундаментальной этической нормы. В таком случае экспертное мнение не позволит разрешить упомянутый конфликт ценностей в подлинно правовом ключе.
Заключение
Итак, признание допустимости конституционного или законодательного ограничения прав человека означает признание возможности уменьшать их содержательный объем, что принципиально неверно, поскольку права человека уже ограничены естественными пределами. Иное дело, что этот вывод относится именно к правам человека, а не ко всем конституционным правам, многие из которых представляют собой социальные (в широком смысле этого слова) блага, чье появление обязано научному прогрессу, росту благосостояния, усложнению взаимоотношений общества с государством и т.д. Как отграничить собственно права человека от прав, хотя и весьма важных для современной жизни, но все же имеющих вторичный характер, — предмет уже другого исследования.
Здесь же хочу сказать еще об одном. Слово «ограничение» как бы предполагает, что законодатель будет сужать содержание основных прав, поэтому его на этом пути нужно сдерживать. Однако понятие естественных пределов, основывающихся на норме, означает, что законодатель не вправе и расширять содержание фундаментальных прав.
Например, уже перестают поражать сообщения о разрешении то тут, то там юридической регистрации однополых браков. В таком случае, почему бы не образоваться и другим «меньшинствам» и не потребовать распространения на них прав человека? Например, если разрешены браки между лицами одного пола, почему не разрешить браки между близкими родственниками? Если кому-нибудь придет в голову организовать такое «инцестное меньшинство», не удивлюсь, что и оно потребует для себя «отмены дискриминационных ограничений», а чиновники и политики, защищающее такое «меньшинство», обязательно найдутся34...
Повторю. Законодательно права человека не должны ни сужаться, ни расширяться. Другое дело, что по мере усложнения действительности (скорее, это эвфемизм размывания критериев аномалии и нормы) содержание и пределы таких прав требуют позитивно-правового уточнения. Казалось бы, какая разница, под каким «теоретическим предлогом» вводятся юридические запреты «злым законодателем» или, наоборот, немыслимые ранее разрешения — «законодателем добрым». Разница есть, и существенная. Если мы говорим об ограничении фундаментальных прав, то должны признать, что в своем «естественном состоянии» (изначально) они включают в себя аномалию, по крайней мере, индифферентны к ней. В таком случае вопрос об оценке законодательных ограничений перетекает из правовой плоскости в политическую: политики и даже судьи теряют правовые аргументы перед лицом некоторых активных общественных групп.
Именно это можно наблюдать в России по вопросу о проведении «маршей сексуальных меньшинств». Местные власти, с которыми, по действующему законодательству, необходимо согласовывать цель, форму, место публичного мероприятия, маршруты движения участников и т.д., отказывают организаторам в проведении таких маршей под разнообразными предлогами. И хотя Закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, на мой взгляд, по ряду своих положений противоречит Конституции РФ, тем не менее, он позволяет поставить хоть какие-то юридические преграды для недопущения «гей-парадов» и им подобных шествий. Но именно «хоть какие-то». Местным властям не пришлось бы «выкручиваться», если бы в законодательстве содержался четкий запрет проведения публичных мероприятий, цели которых противоречат нормам общественной нравственности. Понятно, что возникали бы споры и по вопросу о толковании, что есть общественная нравственность. Но на основе концепции естественной нормы эта проблема гораздо проще бы решалась и в судебном порядке.
Сторонники «странных прав» имеют возможность апеллировать к правам человека именно потому, что теоретически эта категория сегодня лишена одного из своих сущностных элементов — понятия естественной нормы, без которой невозможно говорить и об естественных пределах прав человека.





