Толерантность и ее границы
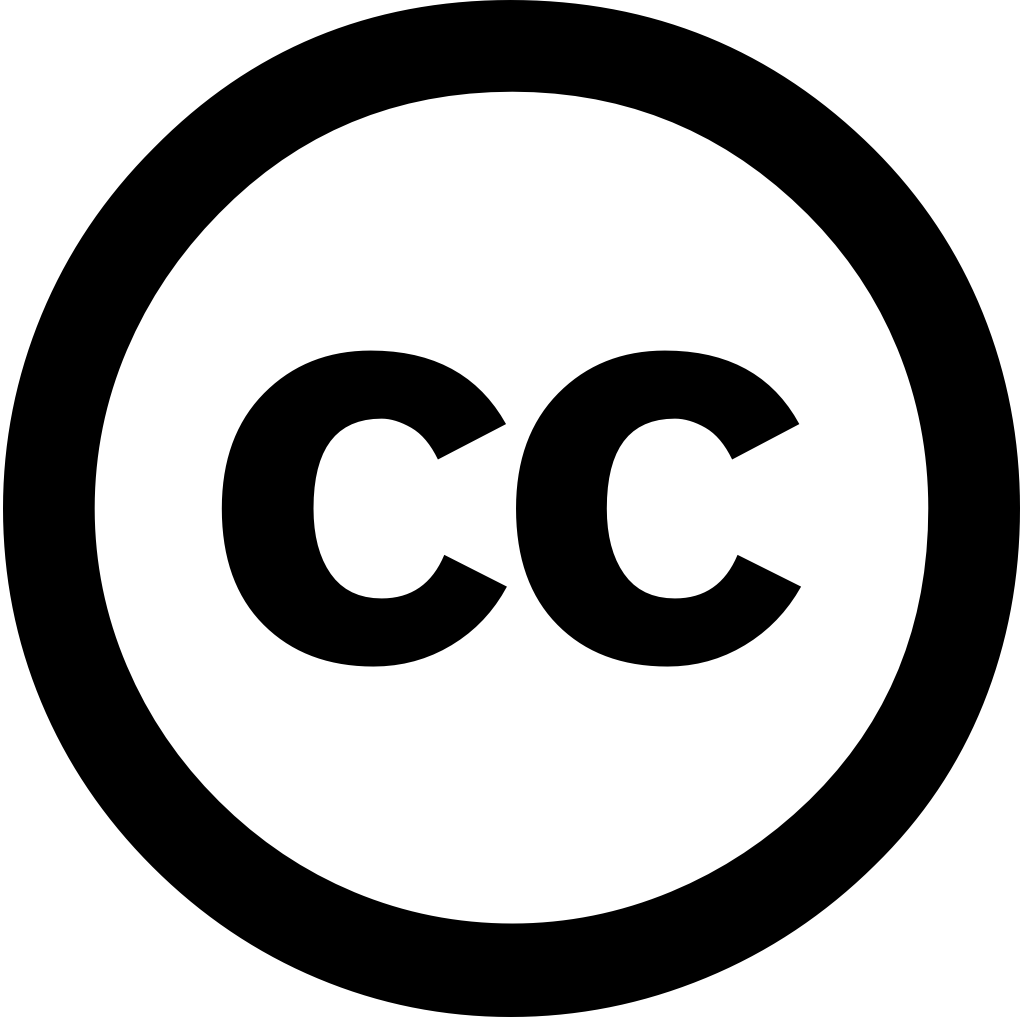

Опубликована Апрель 1, 2011
Последнее обновление статьи Дек. 14, 2022
Аннотация
Анализируется сущность и смысл толерантности как философского понятия. Освещены различные концепции и теории, касающиеся толерантности, ее границ, принципов и внутреннего содержания, сложившиеся в обществе начиная со времен святого Августина и до наших дней.
Ключевые слова
Идентичность, толерантность, терпимость, мультикультурный мир, социальное положение меньшинств, нетерпимость, уважение, границы толерантности, сосуществование
Толерантность представляет собой весьма сложное понятие. Практически все современные исследователи говорят о его фундаментальной противоречивости. Иногда толерантность объявляют невозможным явлением (хотя, одновременно, и необходимым). Так, согласно точке зрения одного из ведущих британских философов Бернарда Уильямса, толерантность невозможна, причем ни как добродетель, ни как ценность. Единственное, о чем можно говорить непротиворечиво, так это о некоторых практиках толерантности, базирующихся на основаниях, всецело отличных от морального фундамента принципов. По Уильямсу, подобные практики могут быть основаны на скептицизме, индифферентности, некоторой широте взглядов или на своеобразном неогоббсианском прагматическом «равновесии интересов», но вовсе не на понимании толерантности как добродетели или ценности.
Под толерантностью всегда имеется в виду нечто большее, нежели просто отказ от насилия, когда от людей требуется попросту «потерять их ненависть, их предрассудки... Если мы просим людей быть толерантными, то мы просим о чем-то гораздо более сложном. Им будет нужно утратить что-то — их желание подавить или уничтожить иное верование; но они также что-то и сохранят, а именно приверженность тем своим представлениям, которые и породили это желание.» [34, с. 73]. В этом и заключается суть проблемы: с одной стороны, имеется то, что кажется нам морально ошибочным, а с другой — мы как субъекты морали должны допускать существование этого ошибочного. Иначе говоря, толерантность в собственном смысле требуется только по отношению к тому, к чему вообще нельзя относиться терпимо. А значит, объем этого понятия сжимается до нуля. Как пишет об этом сам Уильямс, толерантность «кажется невозможной, поскольку она требует думать, что некоторые представления или практика являются абсолютно неверными и в то же самое время полагать, что имеется некоторое внутреннее благо в том, чтобы позволить им процветать» [34, с. 73]. Указанная Уильямсом трудность действительно является чем-то вроде внутреннего парадокса толерантности. Сьюзан Мендус в ставшей сегодня классической книге «Толерантность и границы либерализма» так определяет этот парадокс: «Утверждение Боссу- эта о том, что “у меня есть право преследовать тебя, поскольку я прав, а ты нет”, показывает нам эту трудность: сложно объяснить необходимость толерантного отношения к тому, что люди считают ошибочным, одновременно считая, что мы ничего не потеряем от уничтожения данной практики...» [23, с. 18].
Хотя Мендус и даже Уильямс все же находят некие возможности разрешения данного парадокса (в утверждении либеральных ценностей, связанных с автономией личности), эта фундаментальная трудность в определении толерантности обусловливает широкое разнообразие подходов, имеющихся в современной политической теории. Однако все они, в силу указанного выше парадокса, наряду с оправданием толерантности подразумевают и существование того, что не может быть терпимо не только в качестве чего-то, определяющего толерантность негативно в смысле спинозовского omnis determinatio est negatio, но и парадоксально — в качестве собственного объекта толерантности. Иными словами, все эти концепции различают два вида нетерпимого: такое, к которому все же можно (и нужно) относиться толерантно, и такое, которое ни при каких условиях терпимо быть не может. Конкретное определение этого нетерпимого будет зависеть от определенного типа обоснования толерантности, то есть от существенных характеристик той или иной теории.
Таких типов можно выделить несколько. Согласно Питеру Николсону, толерантность может быть обоснована либо негативно (через невозможность или, чаще всего, нерациональность интолерантности), либо позитивно (как некоторое благо, ценность и добродетель). Позитивные обоснования, в свою очередь, распадаются на те, которые обосновывают толерантность через какое-то другое благо (прогресс, свободу, справедливость), и те, которые полагают толерантность некоторым благом-в-себе [29, с. 158—173]. Тем самым, мы имеем, по крайней мере, три возможных способа определения нетерпимого: по прагматическим основаниям, через отрицание какого-либо внешнего блага и через собственные границы толерантности, которые она, как и всякая добродетель (если, конечно, только она является таковою), имеет.
Прагматические границы толерантности
Толерантность, прежде всего, есть практика «обычных» людей. Философская концепция, как обычно (primum vivere deinde philosophari), следует за этой практикой, а идеологические схемы делают более прочным уже достигнутый мир. Но достигается этот мир не по принципиальным основаниям, а (как это чаще всего получается на практике) по утилитарным и прагматическим соображениям. Поэтому первые теоретические обоснования необходимости толерантности отражали эти соображения, ссылаясь на нерациональность преследования диссидентов. Таковы «Послания о веротерпимости» Джона Локка, таковы взгляды Джона Мильтона, к этому же, в конечном счете, можно свести более ранние аргументы некоторых авторов, например, Бартоломе де Лас Кассаса. Для них интолерантность иррациональна, ибо не может достичь своей цели — привести к истинной религии. Это потому что никто не может абсолютно достоверно знать об истинности своей религии (хотя может верить в ее истинность). Некоторые (в их числе и Локк) добавляют к этому старый библейский аргумент о невозможности принуждения к вере, из которого также следует утверждение толерантности по прагматическим основаниям.
Каковы границы понимаемой так толерантности? Ответ кажется очевидным: если толерантность необходима потому, что нетерпимость не достигает своих целей, она перестанет быть нужной, когда гонения окажутся эффективными. То есть, если кому-то удастся показать, что плодотворная интолерантность все-таки возможна (либо в силу изменения конкретных условий, либо по причине перемены общей теоретической перспективы), прагматическая толерантность теряет всякую ценность. Так, по Фоме Аквинскому, толерантно следует относиться к тем ересям и религиям, борьба с которыми приведет к еще большему злу (но не ко всем остальным диссидентам, борьба с которыми не только возможна, но и желательна) [4]. Именно поэтому Джонасу Просту удалось противопоставить тезису Локка о невозможности принуждения к вере концепцию опосредованного влияния насилия. По Просту, хотя и невозможно в строгом смысле слова заставить человека верить во что-либо, ограниченное насилие вполне может побудить его более внимательно рассмотреть основания своих представлений [28; 1]. Если это так, интолерантность иррациональна лишь в самых крайних своих проявлениях, ибо, конечно, совсем уж неразумно казнить человека, желая обратить его в свою (истинную) веру.
Таким образом, границы толерантности вполне могут интерпретироваться прагматически и чаще всего именно так понимаются в политической практике. Толерантность, с этой точки зрения, ценна до тех пор, пока она эффективна; в противном случае вполне закономерны меры воздействия разной степени суровости. Такое понимание, однако, весьма ограниченно своей принципиальной неустойчивостью. Если выбор толерантности зависит от конкретных изменяющихся условий, не существует никаких гарантий неповторения Варфоломеевской ночи или религиозных войн, если только кто-то сможет доказать, что полное уничтожение той или иной группы, во-первых, возможно, а во-вторых, желательно ради того или иного «общего блага». Ведь именно прагматическими соображениями гонители чаще всего объясняют свою нетерпимость. Например, крайняя нетерпимость к исламу в эпоху «войны против терроризма» диктуется именно прагматикой — соображениями безопасности, благосостояния и пр. Вопросами о правах человека данный дискурс попросту не задается.
Еще очень яркий в связи с этим пример. Историкам и философам хорошо известна эволюция взглядов Святого Августина, который перешел от достаточно широкой толерантности к той «трактовке» донатизма, которая позднее стала теоретической основой Священной Инквизиции. Причем сам Августин объяснял этот свой поворот именно практическими соображениями. Так, в письме к донатисту Винценту он заявляет: «Мое мнение сначала состояло в том, что никого не следует принуждать к единству во Христе. ... Затем, однако, я уступил фактам. Я отказался от этого своего мнения не из-за каких-то контраргументов, но в силу доказанных фактов. Прежде всего мне указали на мой собственный город, который был совершенно донатистским, но страхом императорских законов был обращен к католическому единству...» [21, с. 14—15]. Поскольку толерантность Августина была основана на убеждении в неэффективности интолерантности, именно факты, а не абстрактные рассуждения побудили его изменить свою точку зрения.
В некоторых случаях прагматические соображения работают как нельзя лучше, ведь именно ими были остановлены кровавые религиозные войны новоевропейской истории. Это конкретное решение оказалось вполне устойчивым, хотя, скорее всего, такая устойчивость связана с тем, что практические выходы из положения затем были осмыслены теоретически, превратившись в твердые принципы европейского морального сознания.
Прагматическими соображениями, в конечном итоге, определяются границы толерантности, основанной на смягчении нашего несогласия с тем или иным поведением или верованием. Таких, по выражению Кэрри Нидермана, «путей» к толерантности можно обнаружить множество. Нидерман называет такие, как: скептицизм, функционализм, национализм и мистицизм [26]. К этому списку вполне можно добавить теории res adiaphora — безразличных вещей в религии [32]; рациональный редукционизм — сведение всего содержания различных верований к одной общей основе, как у Гуго Гроция [16]; теории светских функций религии — типа рассуждений Ха Меири [18, с. 114—128; 22], которые вряд ли можно свести к нидермановскому функционализму, анализируемому им на примере Defensor Pacis Мар- силия Падуанского [26], и пр. В подавляющем большинстве этих теорий границы толерантности определяются соображениями безопасности, единства народа, благосостоянием государства и прочими чисто прагматическими соображениями. Это понятно: простым смягчением несогласия с поведением или верованием вполне можно избавиться от интолерантности, возникающей из этого несогласия, но нельзя избежать нетерпимости по иным, чисто прагматическим соображениям. Например, на заре модерности религиозное единство считалось залогом мира в государстве, и даже скептик в вопросах религии поддержал бы, скажем, отмену Нантского эдикта не из-за религиозного несогласия с протестантами, а ради этого мира. Можно признать правоту Ричарда Така, утверждающего, что Липсий, Гроций и Монтень «... согласились бы о том, что не существует и не может быть оснований для насаждения своих собственных верований из-за природы этих верований; но верования вполне могут насильно насаждаться по прагматическим или политическим причинам» [33, с. 35], хотя интерпретация текстов этих авторов у Така и вызывает некоторые вполне законные сомнения.
Сегодня толерантность, несмотря на наличие многочисленных теорий прав человека, во многом основана на скептицизме, а потому неизбежно несет в себе все ограничения ранне-новоевропейских моделей. Так, по мнению Престона Кинга, между толерантностью и скептицизмом имеется особое «...символическое отношение... Толерантность подразумевает антипатию по отношению к определенным идеям, соединенную с убеждением в том, что нельзя исключить того, что они могут быть верными; скептицизм же подразумевает одобрение (то есть «согласие с») определенных идей, соединенное с убеждением, что нельзя исключить из рассмотрения аргументов, которые могли бы доказать, что эти взгляды ошибочны... Толерантность, хотя и начинает с негативной оценки, сочетаемой с приостановленным негативным действием, всегда подразумевает скептицизм, понимаемый как позитивная оценка, сочетаемая с приостановленным позитивным действием» [20, с. 120]. Если это так, то неудивительно, что широкая толерантность некоторых весьма либеральных обществ на наших глазах оборачивалась ксенофобией и неприятием миграции при малейшем сомнении в безопасности недавно прибывших мигрантов. Неудивительно, что и российское общество, также отнюдь не чуждое скептицизма и даже цинизма по отношению к самым различным ценностям, так легко переходит от безразличия к насилию и нетерпимости [3].
Итак, прагматическая толерантность определяется эффективностью и полезностью своего применения, что ограничивает и саму эту концепцию, поскольку основанные на ней решения проблем часто оказываются слишком недолговечными. Такое положение дел заставляет искать принципиальные подходы к проблеме. Одним из условий такого поиска является предварительное обретение мира и спокойствия, то есть практическое решение вопроса.
Границы «благотворной» толерантности
Одним из принципиальных решений вопроса является утверждение, что толерантность связана с некоторым благом, развитию которого она способствует. Поворотным пунктом от чисто прагматических решений и утверждений о неразумности интолерантности к разработке понятия толерантности как некоторой ценности считается эссе Джона Стюарта Милля «О свободе».
Милля многие знают главным образом как утилитариста. Между тем, отношение эссе «О свободе» к его же работе «Утилитаризм» далеко неоднозначно и до сих пор является предметом самой оживленной дискуссии исследователей. Дело в том, что Милль сумел заложить теоретические основы, на которых до сих пор зиждется либеральная мысль, и основы эти вовсе не утилитарны. Толерантность здесь становится частью свободы индивида не только от государственного вмешательства в его частную жизнь, но и от влияния общественного большинства. Для викторианской Британии такое вмешательство было слишком характерно, а воздействие общества на индивида столь сильно, что, согласно Миллю, принимало форму некоторой «тирании большинства».
В Британии XIX века власть более не противостоит народу как нечто ему внешнее; в качестве демократии она стала собственной властью нации. В этом случае уже не может идти речь о тирании правителя, поскольку правительство лишь выражает волю своего народа. Проблема состоит в том, что и сама нация вполне может быть тираном, а потому народоправство обязательно должно быть также ограничено, иначе «тирания большинства» выльется в тираническую политику государства. Именно от этой тирании, по Миллю, и следует защищать индивидуальную свободу.
Однако свобода не есть ценность-в- себе. Она не может (и не должна) быть беспредельной, но всякое ее ограничение должно быть обосновано и может производиться лишь на основании некоторых твердо установленных критериев. Сама по себе свобода содержать этих критериев не может. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос о нетерпимом у Милля, мы должны выяснить: зачем вообще нужна индивидуальная свобода, какому идеалу служит ее развитие? «Тирания большинства», отвечает Милль, ведет к воплощению «китайского идеала создания похожих друг на друга людей», к установлению единообразия гомогенного общества [25, с. 73]. Свобода же, наоборот, ведет к разнообразию, различию. Последнее, по мнению философа, и является условием подлинного прогресса. Толерантность, согласно этой теории, ценна уже не потому, что невозможна нетерпимость, а потому, что она способствует общественному развитию. Несмотря на то, что Милль всячески подчеркивает автономию личности, он, по словам Мендус, защищает ее, «настаивая на том, что дух свободы является “единственным. вечным источником усовершенствования”, и оправдывает как принцип, в котором заинтересован человек “в качестве прогрессивного существа”» [23, с. 59].
Милль считает свободу совместимой с утилитаризмом, хотя она и противоречит принципам последнего. Если общество не должно принуждать человека к чему-либо, даже несущему счастье, такое противоречие налицо, ибо утилитаризм рассматривает как благо все, что ведет к увеличению совокупного счастья. Однако человек по своей природе есть существо развивающееся, свобода непосредственно входит в условия его истинного счастья. Как об этом говорит сам английский философ, «я считаю пользу (utility) последним критерием во всех этических вопросах; но это должна быть польза в самом широком смысле, основанная на вечном интересе человека как прогрессивного существа» [25, с. 11].
Границы свободы и толерантности в этом случае должны определяться их реальным вкладом в развитие и улучшение человека. Иначе говоря, если прогресс является основным благом, то и терпеть мы должны только то, что ему (прогрессу) способствует. Однако такое утверждение, по Миллю, было бы абсолютно неверно. Свобода не является инструментом прогресса, поскольку она не производит его сама по себе. Свобода есть скорее условие прогрессивного развития общества. А это означает, что любое ограничение индивидуальной свободы есть препятствие для такого движения вперед. Индивид, по Миллю, является «абсолютным сувереном над самим собой, над своими умом и телом» [25, с. 10], и его автономия не подвластна никакому ограничению. Но, нетерпимое существует, значит, имеются и вынужденные пределы свободы. Картина переворачивается: если в Средние века, да и в раннее Новое время единообразие верований считалось благом, а толерантность к различиям, в лучшем случае, полагалась необходимым злом, то теперь необходимым злом становятся скорее некоторые неизбежные униконформность и конформность, а также вынужденные ограничения свободы.
Сам Милль считает главной задачей своего эссе утверждение «одного очень простого принципа, которым полностью должно руководствоваться общество в его отношении к индивиду». Принцип этот состоит в том, что «самозащита является единственной целью, ради которой человечеству дано право вмешиваться в свободу действий любого его представителя. Единственной задачей, ради которой должным образом можно применить власть по отношению к члену цивилизованного сообщества против его воли, является предотвращение вреда для других его членов. Его собственное физическое или моральное благо не является здесь достаточным основанием» [25, с. 9]. Конечно, «очень простой принцип» вовсе не так прост: работа Милля до сих пор служит камнем преткновения во многих дискуссиях. И дискуссии эти по большей части касаются этого самого принципа ограничения индивидуальной свободы посредством утверждения недопустимости нанесения вреда другим людям (harm principle).
Само понятие вреда очень размыто и вряд ли может служить принципом точного разделения «терпимого» и «нетерпимого». Один из современных британских публичных интеллектуалов, философ политики Джон Грей задает ряд вопросов, связанных с проблемой практического определения этого самого вреда: «действительно ли Милль хочет, чтобы читатель относил «вред» только к физическому вреду, или же во всякое применение принципа свободы должен быть включен класс морального вреда, наносимого личности? Должен ли тот вред, который предотвращается ограничениями свободы, наноситься определенным индивидам, или его можно также рассматривать и в отношении институтов, социальных практик и форм жизни? Может ли серьезное оскорбление чувств считаться вредом, насколько это касается ограничений свободы?» [14, с. 49]. Эти вопросы остаются практически без ответа, а от ответа на них зависит понимание границ толерантности в следующих Миллю либеральных учениях.
Выделяют два основных способа понимания вреда, наносимого другим людям. Их можно назвать, соответственно, слабой и сильной моделями. Согласно слабой модели, в понятие вреда включается любой моральный ущерб, всякое оскорбительное деяние. По сильной модели, вред — есть лишь прямое физическое воздействие: убийство, насилие и т. п. Согласно первой модели, в разряд нетерпимого попадает слишком многое из вполне допустимого в современном демократическом обществе. Второе понимание оставляет в обществе место пропаганде насилия, расовой дискриминации и пр. При этом и без отношения к реальному различию данных моделей остается вопрос об определении вреда как такового. Это последнее затруднение демонстрируют дискуссии феминистов с либералами по поводу допустимости порнографии. Если либералы, основываясь на принципах свободы слова, полагают допустимым «приватное» чтение порнографии, то феминисты настаивают на абсолютном ее запрещении.
Для либералов «приватное» употребление порнографических материалов допустимо, поскольку оно не наносит физического вреда (например, не способствует росту числа изнасилований), значит, права потребителя подобного сорта материалов не должны как- то ограничиваться. Для феминистов само существование порнографии свидетельствует об отношении «мужского общества» к женскому телу как к средству для получения наслаждения. Такое отношение представляет собой вред, причем прямого «физического сорта», калечащий личность не менее, чем изнасилование. Утилитарное понимание границ толерантности, как мы видим, совсем не очевидно, и понимание нетерпимого здесь зависит от способа интерпретации понятия вреда.
Необходимо отметить, что теория Милля вполне может стать основой и совершенно нелиберальных выводов. Неочевиден тот факт, что свобода и автономия личности являются необходимыми условиями морального прогресса. Еще из Библии известно, что свободный выбор не всегда есть выбор морально лучшего. Можно сказать, что теория Милля основывается на своеобразном оптимизме по отношению к человеческой природе, что неизбежно ограничивает возможности ее применения. Вряд ли с таким оптимизмом согласится, например, подавляющее большинство христиан, считающих эту самую природу фундаментально испорченной грехопадением. Вспомним в связи с этим утверждение Августина о том, что человек «не может не грешить» (nonpotest nonpeccari).
Милль хорошо понимает эти границы и вводит еще один принцип, ограничивающий свободу индивида, — принцип моральной зрелости человека для свободы и автономного выбора: «эта доктрина предназначена только для людей в состоянии зрелости их способностей. Мы не говорим о детях или о молодых людях младше того возраста, который закон определяет как возраст мужской или женской зрелости (manhood or womanhood) ... По той же самой причине мы можем не рассматривать те прошлые состояния общества, в которых сама человеческая раса может считаться находящейся в незрелом возрасте. ... Деспотизм является вполне легитимным способом правления при обращении с варварами, при условии, что целью будет их улучшение, а средства оправданы тем, что они действительно способствуют достижению этой цели» [25, с. 10]. Отсюда следуют очень неутешительные выводы, например, по отношению к некоторым британским колониям. Варварство, как и детство, не способно к свободному выбору, и потому, в сущности, не дает нам примера истинной автономии. Свобода хороша для подданных королевы, достигших состояния совершеннолетия.
Применение теории толерантности Милля на практике в современном обществе обернулось бы лишением права на свободу многих культур, кажущихся западной цивилизации «варварскими». Не это ли происходит сегодня с отношением либерального большинства к мусульманам, и не только прагматические ли соображения удерживают западную цивилизацию от нового крестового похода?
Интересно, что подобного рода толерантность, соединяясь с дискурсом цивилизации, из эмансипирующего принципа легко превращается в дисциплинирование различий и властного управления ими [2; 5]. В современной политической философии это демонстрирует последняя работа Джона Роулза «Закон народов». В ней он, формулируя либеральную теорию международных отношений, разделяет все народы на либеральные, являющиеся равноправными участниками международного сообщества; «достойные», не либеральные в строгом смысле этого слова народы, но все же не слишком сильно нарушающие права человека, и на этом основании толерантно допускаемые к участию в этом сообществе; народы «обремененные», по разным причинам не способные пока воспользоваться плодами свободы и равенства и потому требующие поддержки и помощи со стороны либеральных народов; и, наконец, народы «беззаконные», грубо нарушающие законы международного сообщества (разработанные одними только либеральными народами) и права своих граждан, а потому подвластные вполне легитимному гуманитарному вмешательству (вплоть до вооруженной интервенции) [31]. Логика такой толерантности легко приводит к Афганистану, Ираку, Ливии...
Таким образом, введение еще одного критерия зрелости человека как морального существа, помимо принципа ненанесения вреда, ставит под сомнение эмансипаторский потенциал теории Милля. Дело здесь в неопределенности самого этого критерия. Сам Милль определяет зрелость как такое состояние, при котором автономный свободный выбор естественным образом ведет к моральному усовершенствованию личности. Такое усовершенствование означает предпочтение «высших» наслаждений «низшим». Отличие «высшего» от «низшего» же, в свою очередь, определяется не чем иным, как собственным моральным идеалом Милля. В таком случае варварством можно объявить все, такому идеалу не соответствующее. И в самом деле, Милль подчас поддается такому искушению. Например, совсем не либерально звучат сегодня следующие его размышления об «истинном» браке: «Я не буду пытаться описать, чем может быть брак между двумя личностями с развитыми способностями, согласными друг с другом во мнениях и целях, между которыми существует наилучший вид равенства, а именно подобие сил и способностей. ... Но я утверждаю с глубочайшим убеждением, что это, и только это, является идеалом брака и что все мнения, обычаи и институты, поддерживающие любое другое понятие о нем либо поворачивающие планы и стремления, связанные с ним, в любом другом направлении. являются остатками первобытного варварства» [24, с. 177]. В таком случае вообще непонятно, зачем свобода в отношении брака, если любые другие формы его суть не что иное, как «варварство», «незрелость», то есть, по мнению Милля, нечто, свободу исключающее?
Итак, толерантность у Милля ограничивается, во-первых, вредом, наносимым другим членам общества, во- вторых, моральной зрелостью человека и общества. Оба эти принципа поддаются самым различным толкованиям, что неизбежно ведет к трудностям практической реализации теории автора эссе «О свободе». Однако трудности воплощения политической теории не обязательно свидетельствуют о ее ложности. Любой идеал (а политическая философия строит именно идеалы) не может быть воплощен именно в силу своего идеального характера... Но проблема, лежит глубже — теория Милля основывается на весьма нагруженном метафизическом понимании природы человека как автономного существа, а потому и ведет, в конечном счете, к империалистическому разделению «цивилизации» и «варварства».
Современный либерализм, несмотря на всю его новизну и отрицание утилитаризма, во многом остается в пределах модели Милля. Так, Роулз в своей «Теории справедливости» [30], отвергнув все «телеологические» способы мысли (к которым он относит прежде всего утилитаризм), основывает свою теорию на принципе автономии личности. Правда, в более поздней работе [31] он, пытаясь отказаться от любой метафизики, в том числе и кантовской, провозглашает некоторый особый, «политический» либерализм в противовес либерализму «полному» (comprehensive). Суть его состоит в том, что в условиях «разумного плюрализма» различных доктрин и теорий, в спорах о справедливом устроении общества мы должны руководствоваться вовсе не этими доктринами (в их число попадает и учение об автономной личности), а соображениями права. Почти непреодолимые трудности здесь заключаются как в возможности нейтрального обоснования этого самого «приоритета права», так и в психологическом неудобстве данной доктрины, предполагающей в современном человеке шизофреническую раздвоенность «частного лица» и «гражданина».
Отсутствие убедительного решения побуждает ряд либералов, многие из которых видят всю сложность проблемы мультикультурализма, сознательно возвращаться к принципу автономии личности. Так, Уилл Кимлика полагает, что «самая основательная либеральная теория основана на ценности автономии и что любая форма групповых прав, ограничивающая гражданские права членов группы, тем самым несовместима с либеральными принципами равенства и свободы» [19, с. 95]. Кимлика при этом вполне осознает тот факт, что в условиях мультикультурализма не всякая культура считает прогресс благом, а автономию причисляет к достоинствам личности. Либеральное государство, считает он, вовсе не обязано абсолютно жестко следовать своим принципам и насильственно насаждать либерализм в любых группах, проживающих на его территории. Вопрос о «насаждении либерализма», по Кимлике, является чисто практической проблемой. При ее решении необходимо принимать во внимание множество более специфических вопросов, таких, как: вопросы «степени нарушения прав в той или иной группе, степени согласия в группе по поводу легитимности ограничения индивидуальных прав, возможности для диссидентов выйти по своему желанию из состава этой группы, существования исторических соглашений с меньшинством...» и др. [19, с. 95].
Несмотря на очевидную практичность, данное решение оставляет без внимания затруднение теоретического плана, поскольку, по сути дела, объявляет основной принцип либерализма утопией в современном мире. Здесь может быть два пути. Один, оптимистический, состоит в том, что постепенно нелиберальные меньшинства признают ценность автономии личности и вступят на путь «цивилизованного» человечества. Надежда на такой ход событий напоминает нам об оптимизме Милля. Другая возможность заключается в усилении противоречий в связи с дальнейшим развитием мультикультурного общества. В этом случае, несмотря на то, что пока «имеется мало места для насильственного вмешательства», поскольку большинство проблем, возникающих между либеральным большинством и нелиберальными меньшинствами, может быть разрешено «посредством мирных переговоров» [19, с. 96], в грядущем либеральное государство придет либо к насилию, либо к полному отказу от своих собственных принципов. Некоторые из теоретиков ведут разговор о кризисе либеральной толерантности, поскольку она в своей классической интерпретации «предполагает культурный консенсус по поводу ценностей, даже когда допускает различия в представлениях. Это — идеал, неадекватный для обществ, в которых глубокое моральное разнообразие установилось как факт жизни» [13, с. 323—333]. Джон Грей здесь указывает на продемонстрированную двойственность либеральной толерантности, с одной стороны, способствующей эмансипации индивида, а с другой — стремящейся навязать довольно нагруженное видение его природы. По его словам, «либеральная толерантность внесла неизмеримый вклад в благополучие (well-being) человека. Не будучи нигде укоренена столь глубоко, чтобы ее можно было бы считать чем-то само собой разумеющимся, она представляет собой достижение, которое невозможно переоценить. Мы не можем обойтись без этого идеала ранней модерности; но она не может быть и нашим руководством в условиях поздней модерности. Ведь полученный нами в наследство идеал толерантности включает в себя две несовместимые философии.
С одной стороны, либеральная толерантность является идеалом рационального консенсуса по поводу наилучшего образа жизни. С другой, она представляет собой представление о том, что люди могут процветать различными способами» [15, с. 1]. Первая «философия», коренящаяся в «проекте Просвещения», не соответствует высоко плюралистическому обществу поздней модерности. Толерантность же, основанная на одном лишь втором аспекте — мульткультурном процветании различных образов жизни перестает быть таковой, превращаясь, скорее, в modus vivendi, определяемый как принципиальный отказ от общих ценностей. «Для того, чтобы жить вместе в мире, нам не нужны общие ценности. Нам необходимы общие институты, в которых могут сосуществовать различные формы жизни» [15, с. 6].
Толерантность как благо-в-себе
Проблематичность оправдания толерантности через некое общее благо или ценность, условием реализации которых она является, связана с трудностью определения таких общих благ и ценностей в высокоплюральном мультикультурном мире поздней модерности. Это оставляет единственный в своем роде путь к «спасению» толерантности, заключающийся в возможности ее понимания как вполне самостоятельного блага. Питер Николсон, указывая на теоретическую возможность такого понимания, очень мало говорит о том, как вообще оно возможно практически. Ведь если толерантность есть благо-в-себе, то есть является благом через саму себя, а не через что-то иное, то она, вроде бы, не нуждается в каком-либо отдельном обосновании этой благости.
Между тем (сам Николсон признает это), благость толерантности является наиболее дискуссионной характеристикой этого понятия. Если это так, если ценность толерантности для своего утверждения в обществе все-таки концептуально зависима и нуждается в специальном философском обосновании, то как можно говорить о ее внутренней благости?
Здесь имеется один трюк, к которому прибегают и Николсон, и некоторые другие авторы (в их числе и авторы Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО). Толерантность подменяют каким-то иным, близким по смыслу, но все же не абсолютно тождественным понятием. Так, Николсон заявляет, что под толерантностью следует понимать уважение к личности человека, а упомянутая выше Декларация определяет ее как уважение к разнообразию культур. Внутренняя ценность уважения, конечно, гораздо более очевидна, нежели имманентная благость толерантности. Однако здесь очевидна опасность подмены понятий, ведь уважение есть все-таки нечто большее, чем толерантность.
Отношение толерантности к уважению не столь однозначно и заслуживает отдельного весьма внимательного рассмотрения. Под уважением мы понимаем как минимум две очень разные вещи. Ведь одно дело — испытывать уважение, например, к великому ученому за его выдающиеся заслуги, и совсем другое — уважать человеческое достоинство в каждом человеке, сколь бы низким и подлым он ни был. Первое имеет своим предметом заслугу, второе — моральное положение человека в мире. Стефен Даруалл называет первое «оценочным уважением» (appraisal respect), а второе «уважением-признанием» (recognition respect). Он пишет, что «то почтение (esteem), которое мы называем «уважением», а далее, «оценочным уважением» (appraisal respect) — является оценкой характера или поведения человека, либо чего-то, их затрагивающего». При этом оно определяется как «почтение, которое было заслужено или заработано поведением или характером» [6, с. 122]. «Когда мы думаем, что даже негодяи имеют достоинство (dignity), которое дает им право на уважительные формы отношения, мы явно подразумеваем что-то другое, а не почтение (esteem)». Это и есть уважение-признание (recognition-respect), объект которого — «... не превосходство или заслуга, но достоинство или авторитет. Уважение-признание относится не к тому, каким образом нечто должно оцениваться, но к тому, как должно регулироваться и чем должно руководствоваться наше отношение к нему. Вообще говоря, мы уважаем что- то в аспекте признания, когда мы даем ему некоторое положение (авторитет) в нашем отношении к нему» [6, с. 123].
Когда мы говорим о толерантности, речи об «оценочном уважении» быть не может, ведь толерантность тогда утратила бы свойственный ей, по выражению Райнера Форста, «элемент неприятия» [9], превратившись просто в принятие и одобрение. Нельзя толерантно относиться к тому или иному мнению, например, одновременно считая его чрезвычайно ценным.
Выше мы говорили о средневековых обоснованиях толерантности, основанных на своеобразном «смягчении» элемента несогласия через скептицизм, теории «безразличных вещей», мистицизм и пр., но при этом речь не заходила об уважении. Так иудей Ха-Меири, считая христианство ложной религией, полагал возможным толерантно относиться к нему на том основании, что, выйдя из иудаизма и сохраняя поэтому некое «минимальное откровение», оно способно к организации общественной жизни. Хотя это и не делает христианство истинной религией, достойной интеллектуального уважения [22].
Другое дело — уважение-признание. С ним мы встречаемся уже в либеральных теориях, в том числе и в концепции Милля. Толерантность здесь основана именно на «уважении-признании» морального статуса индивида, его суверенитета, автономии, иными словами, его прав. Мы можем не соглашаться с тем или иным верованием, но, уважая суверенный статус автономного индивида, его право самому определять свои убеждения и строить в соответствии с ними свою собственную жизнь, все же толерантно к нему относиться. Объектом уважения-признания является не само отклонение, наличие которого мы лишь терпим, но личность человека, его моральная самость, субъект и носитель индивидуальных прав. Причем для толерантности принципиально важным является возможность отделения (того, что мы имеем) от моральной личности (того, что мы есть). Мы терпим первое ради уважения ко второму. Поэтому такого рода толерантность применима лишь к мнению, верованию или поведению, то есть тому, что, во-первых, может быть изменено, и, во-вторых, с изменением чего не меняется сущность его носителя. Человек может перестать быть православным или католиком, поменять свои политические убеждения, начать вести себя совсем по-другому, но его личность в качестве морального субъекта прав останется той же самой.
Основные вопросы современного общества более сложны и относятся зачастую не к мнению или поведению, а к идентичности (не к тому, что человек имеет, но к тому, что он есть), изменить которую не так просто. Классическая либеральная толерантность к мнению или поведению, основанная на уважении-признании личности, к этим вопросам более не применима. Толерантность к идентичности означает, что объектом и толерантности, и уважения становится сам индивид, а не те или иные его характеристики. Применение классической модели толерантности здесь обернулось бы отказом от принципа равенства, что, как показывает Уенди Браун, сегодня часто и происходит [5]. В классической толерантности этого не случается — мы толерантно относимся к различию именно потому, что признаем равенство личностей. Здесь же сама личность становится объектом толерантности, что, в сущности, лишает ее равного статуса. Поэтому Райнер Форст утверждает, что «расисту не следует быть толерантным, он должен преодолеть свой расизм» [7], а Бернард Уильямс считает странным применять толерантность к гомосексуализму, ведь «гомосексуальная пара, живущая в многоквартирном доме, вероятно, оскорбилась бы, услышав, что другие жители дома “толерантно относятся” к их menage» [35, с. 36]. И расовым, и сексуальным меньшинствам необходимо равенство, а не толерантность.
Вопросы идентичности в мульти- культурном обществе становятся все более острыми, и для их решения все чаще применяют понятие толерантности. Неприменимость к ним классической либеральной ее интерпретации делает их, по выражению Галеотти, «нетривиальными». Он пишет: «... когда речь идет о подлинных нетривиальных вопросах, обычные их решения, основанные на либеральном понимании толерантности, в большой мере не являются адекватными и кажутся неудовлетворительными вне зависимости от того, к какому решению здесь приходят, — то есть не кажется удовлетворительной ни одна из альтернатив — ни толерантное отношение, ни утверждение пределов толерантности. Примеры подлинных случаев толерантности включают в себя такие спорные вопросы, как ношение исламского головного платка в публичных школах, допущение геев к службе в армии или правила, применяемые по отношению к возбуждающей насилие и ненависть речи» [11, с. 10]. Проблема здесь заключается уже не просто в толерантности по отношению к индивидуальным различиям, но в вопросах, связанных с социальным положением различных меньшинств.
Перефразируя Джорджа Оруэлла, можно сказать, что некоторые различия более различны, чем другие. Никто в Европе не считает, например, «различием» культурные характеристики большинства: белую кожу, европейское строение лица, язык, на котором говорит большинство населения, христианство и пр. Вопрос о толерантности возникает лишь в случае меньшинств. Классическое либеральное решение, основанное на правах человека, подразумевает и стратегию приватизации, согласно которой в качестве частного индивида человек как автономное существо может делать все, что не наносит вреда другим людям. Между тем, по Галеотти, поскольку такое решение означает вытеснение различий меньшинств в частную сферу (в своей личной жизни человек может носить мусульманский платок, быть гомосексуалистом или исповедовать ислам), оно делает идентичность меньшинства «невидимой», внося тем самым свой вклад в дальнейшую их маргинализацию и неравенство.
Поэтому, «если современные проблемы толерантности заключаются в равных уважении и социальном статусе групп меньшинств, а не в равных свободах для индивидов, то и к вопросу о публичной толерантности следует подходить не просто в терминах совместимости либеральных институтов с различными культурами и практиками, но с точки зрения борьбы за включение определенных идентичностей и их носителей в политическое общество через публичное признание их различий» [11, с. 14]. Толерантность здесь приобретает особое символическое измерение, становясь знаком того, что общество готово бороться против маргинализации меньшинств, их «невидимости» в публичной сфере, и заключается в принципиальном допущении различий в публичную жизнь общества.
Уважение-признание направлено уже не только на личность носителя того или иного различия-отклонения, но на само это отклонение. При таком понимании толерантности совсем не обязательно направлять толерантность и уважение на принципиально разные объекты, а строгое соблюдение границ между терпимым различием и его носителем не является необходимостью. Отличие же «оценочного уважения» и «уважения-признания» дает возможность, хотя и отдаленную, сохранения негативного элемента толерантности. Ведь публичное признание различий у Галеотти «не подразумевает того, что эти различия являются внутренне ценными, прекрасными или важными для достижения человеческого блага. Оно, однако, подразумевает, что существует много различных дресс-кодов, образов жизни, религиозных ритуалов и прочего среди возможных вариантов выбора в обществе в целом. Другими словами, оно является символическим и все же очень реальным способом расширения плюрализма, который уже является частью демократического общества...» [11, с. 112].
Различия признаются и уважаются не ради них самих (тогда, конечно, о толерантности вообще говорить было бы невозможно), не в смысле «оценочного уважения», но как обладающие значительной ценностью для людей, имеющих право на равное уважение в обществе. Например, нет ничего ценного (прекрасного или благого) в ношении мусульманского платка (вид женщины, всегда покрывающей голову, может оскорблять мой эстетический вкус или казаться мне отвратительным сексизмом). Но допуская его ношение в публичных местах (школах, например), мы признаем, что мусульмане имеют право на равное уважение в обществе, они не должны отказываться от значимой для них идентичности, поэтому действительно равны в своих правах той группе, которая составляет в этом обществе подавляющее большинство.
На первый план здесь выходят именно символические смысл и значение толерантности. Толерантность является внутренне благим отношением, но только в том случае, если она основана на уважении-признании. Ведь «поддержка толерантности по недолжным основаниям способна, на самом деле, разрушить возможность ее символического значения как формы признания различий. Для того, чтобы это символическое значение было явным, толерантность должна оправдываться аргументом равенства уважения...» [12, с. 232]. Допустить гомосексуалиста к работе в школе или службе в армии, например, можно (как это и делается в большинстве стран), просто не спрашивая о его сексуальных пристрастиях. Однако это не сделает различие «видимым», а значит и толерантность, по Галеотти, не достигнет своих целей. Вспомним, например, недавний скандал с избиением посетителей одного из гей-клубов в Санкт- Петербурге. Среди множества гомофобных комментариев был и такой: «Господам геям ведь мало просто заниматься своим совсем “небогоугодным” делом, так сказать, интимно — вдвоем под одеялом, где их никто не беспокоит и не трогает. Надо постоянно привлекать к себе внимание и звенеть о том, что “я — гей” на каждом углу (парады, клубы, пресса). Вот и получите “внимание”!» [10]. Такого рода «толерантность», вытесняющая различие из публичной сферы «под одеяло», толерантностью в смысле признания, конечно, не является. У Галеотти толерантность уже не просто основана на уважении, но становится его важнейшим символическим аспектом, практически неразрывно сливаясь с ним.
Похожим образом рассматривает толерантность еще один современный автор, представитель «третьего поколения» Франкфуртской школы Райнер Форст, считающий, что истинным основанием толерантности является то, что он называет «взаимностью оправдания» (reciprocity of justification) [9, с. 317].
В отношениях друг с другом в обществе граждане, по Форсту, обязаны руководствоваться представлением о том, что каждый из них обладает равным «правом на оправдание» (right to justification), то есть правом на то, чтобы каждое действие, касающееся их жизни, было бы оправданно с их собственной точки зрения. Понуждать атеиста, например, посещать церковь, руководствуясь представлением о том, что вне Церкви спастись невозможно, было бы прямым нарушением этого права, поскольку такое оправдание с точки зрения атеиста оправданием вообще не является. Свою теорию толерантности Форст называет «концепцией уважения», согласно «... которой толерантно относящиеся друг к другу стороны уважают друг друга в более взаимном смысле: с моральной точки зрения они рассматривают себя и других в качестве граждан государства, в котором члены всех групп — большинства и меньшинств — должны иметь равный легальный и политический статус» [9, с. 74]. Важной отличительной чертой такой толерантности является ее симметричность: введя в теорию толерантности идею взаимного уважения, Форст преодолевает асимметрию между субъектом и объектом толерантности, рассматривая вместо этого стороны толерантности как толерантно относящиеся друг к другу. Легко заметить в «праве на оправдание» еще одно выражение принципа индивидуальной автономии и суверенитета индивида, что приближает теорию Форста к классическим либеральным моделям толерантности. И все-таки у Форста, в отличие от Милля, например, толерантность становится благом сама по себе, а не потому, что она способствует достижению какого-то другого, отличного от нее самой блага. И Форст, и Галеотти, как мы видели, достигают этого, практически отождествив толерантность с одним из видов уважения и признания.
Важность таких концепций в мультикультурном мире различий трудно переоценить. Проблематичность их заключается в том, что в таком виде толерантность практически утрачивает элемент несогласия, представляя собой один из аспектов уважения. Можно задаваться вопросом: а не слишком ли далеко мы удаляемся здесь от начального смысла этого термина, так или иначе связанного с претерпеванием неприятного? И зачем вообще говорить о толерантности, если можно просто утверждать ценность признания, уважения, равенства и взаимности? Попытка «спасения» толерантности для решения проблем мультикультурного общества, таким образом, значительно рискует утратой специфического характера этой странной добродетели.
Из всего рассмотренного нами в этой статье следует вывод о том, что как границы, так и содержание толерантности в очень высокой степени зависят от способа ее теоретического обоснования. В каждой из трех рассмотренных нами парадигм, толерантность применяется к строго определенным вопросам и лишь в довольно строгих пределах и рамках. При этом часто выход за эти границы, перенесение одного понимания толерантности на собственные объекты другой теории, размывает ее содержание и даже способствует ее превращению в собственную противоположность. И все-таки при использовании каждой из этих теорий в ее собственных границах разные понимания толерантности вполне могут сосуществовать в одном и том же обществе. А имея в виду плюрализм мультикультурного «общества различия» поздней модерности, такое сосуществование кажется не только возможным, но и совершенно необходимым.
Список литературы:
Хомяков М.Б. Введение. «Послания о веротерпимости» Локка и дискуссия с Простом // Послание о веротерпимости Дж. Локка: точки зрения / Под ред. М.Б. Хомякова. — Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002. - С. 5-28.
Хомяков М.Б. Модерность — путь к открытости будущего // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2009. — Т. 12. — №2. — С. 58—83.
Хомяков М.Б. Толерантность — парадоксальная ценность // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2003. — Т. 6. — №4. — С. 98—112.
Aquinas Thomas. Summa Theologiae. — Sec.Sec. — Qu. 10. — art. 11.
Brown W. Regulating aversion. Tolerance in the age of identity and empire. — Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006.
Darwall S.L. The second-person standpoint: morality, respect, and accountability // Stephen Darwall Cambridge, Mass. — London : Harvard university press, 2006.
Forst R. Der schmale grat zwischen ablehnung und akzeptanz // Frankfurter Rundschau. — 2001. — December 28.
Forst R. The limits of toleration // Constellations. — 2004. — Vol. 11. — №3.
Forst R. Toleration, justice and reason // C. McKinnon, D. Castiglione (eds.). The culture of toleration in diverse societies. — Manchester University Press, 2003.
Gazeta.RU. — Электронный ресурс: режим доступа — http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/09/05/n_1995045.shtml
Galeotti M. Russian and post-Soviet organized crime / Ed. by M. Galeotti. — Dartmouth: Ashgate, 2002.
Galeotti M. Gorbachev and his revolution // M. Galeotti. Basingstoke (Hants.). — London: Macmillan press, New York: St. Martin’s press, 1997.
Grey J. Pluralism and toleration in contemporary political philosophy // Political Studies. — 2000. — Vol. 48.
Grey J. Mill on liberty: A defense. — London: Routledge and Kegan Paul, 1983.
Grey J. Two faces of liberalis. — London: Polity Press, 2000a.
Grotius H. The truth of the Christian religion / ed. by Jean Le Clerc, tr. by John Clark. — London,1800.
Horton J. (ed.). Liberalism, multiculturalism and toleration. — Macmilan, 1993.
Katz J. Exclusiveness and tolerance. — Oxford University Press, 1961.
Kimlicka W. Two models of pluralism and tolerance // Toleration: An elusive virtu / еd. by D. Heyd. — Princeton, 1996.
King P. Toleration. — London: Allen and Unwin, 1976.
Lamirande E. Church, state and toleration. An intriguing change of mind in Augustine. Villanova Univ. Press, 1975.
Last Stone S. Tolerance versus pluralism in Judaism // Journal of Human Rights, Carfax Publishing. — 2003. — V. 2. — №1. — Pp. 109—116.
Mendus S. Toleration and the limits of liberalism. — MacMillan, 1989.
Mill J.S. The subjection of women. — London: Virago, 1983.
Mill J.S. On liberty / Ed. by A. Castell. — Wheeling (Illinois), 1947.
Nederman C.J. Toleration in a new key: historical and global perspectives // Critical Review of International Social and Political Philosophy. — 2011. — 14:3. — Pp. 349—361.
Nederman C. Worlds of difference. European discourses of toleration. —University Park, The Pennsylvania State University Press, 2000. — Pp. 1100—1550.
Nicholson P. John Locke’s later letters on toleration // Horton J., Mendus S. (eds.). John Locke. A letter concerning toleration in focus. — London, New York, Routledge, 1991. Pp. 163—187.
Nicholson P. Toleration as a moral ideal // Horton J., Mendus S. (eds.). Aspects of toleration. Philosophical studie. — London, New York, 1985.
Rawls J. A theory ofjustice. — Camridge, MA, 1971.
Rawls J. Political liberalism. — New York: Columbia University Press, 1993.
Simonutti L. Scepticism and the theory of toleration: human fallibility and adiaphora // G. Paganini (ed.). The return of scepticism from Hobbes and Descartes to Bayle. — Kluwer Academic Publishers, 2003. — Pp. 283—302.
Tuck R. Scepticism and toleration in the seventeenth century // Susan Mendus (ed.). Justifying toleration. Conceptual and historical perspectives — Cambridge University Press, 1988.
Williams B. Tolerating the intolerable // Mendus S. (ed.). The Politics of toleration in modern life — Durham: Duke Univ. Press, 2000.
- Williams B. Toleration, a political or moral question? // Tolerance between intolerance and the intolerable / Ed. by P. Ricoeur — Providence, RI: Berghahn, 1996. — Pp. 35—52.





