Цифровые платформы и международное частное право, или Есть ли будущее у киберправа?
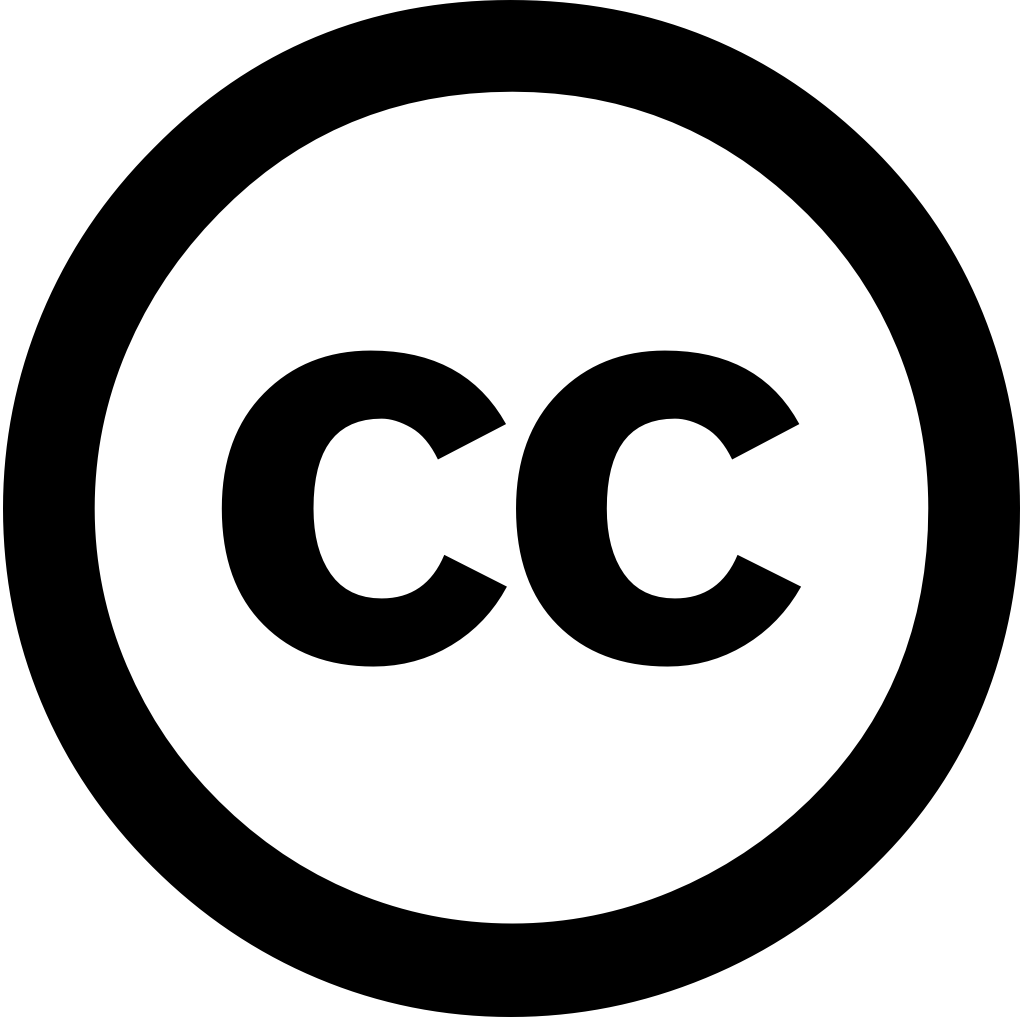

Опубликована Фев. 1, 2019
Последнее обновление статьи Июнь 12, 2024
Аннотация
Современные экономика и социум реконфигурируются в связи с появлением и развитием цифровых платформ, что образно именуется как «уберизация всего». Это стало возможным за счет развития информационно-коммуникационных технологий и формирования киберпространства. Ключевой проблемой для юристов является конструирование правовой надстройки киберпространства, что приводит к появлению целого ряда концептов: киберправа, «платформенного права», интернет-права и пр. Однако пока наука пытается осмыслить соответствующие парадигмальные сдвиги, колоссальный массив трансграничных сделок совершается потребителями с компаниями платформенного типа; трансграничные споры разрешаются посредством онлайн-урегулирования споров (ODR-процедур) в международных коммерческих арбитражах или судах; формируется правоприменительная практика, которая отвечает на вызовы киберсреды. И именно инструментарий международного частного права оказывается наиболее востребованным при регулировании соответствующих отношений. Что окажется более жизнеспособным в современных условиях: международное частное право или киберправо?
Ключевые слова
Глобализация, киберпространство, международное частное право, ODR, международный коммерческий арбитраж, киберправо, платформенное право, пользовательские соглашения, сеть, международные контракты, lex mercatоria
Киберпространство — это восхитительная новая игровая площадка для старых игр.
Дж. Соммер [2]
1. НОВАЯ ЭКОНОМИКА — НОВОЕ ПРАВО? НОВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ: ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
«Уберизация» всего уже происходит, но не каждый Uber добьется успеха.
С. Фриман[3]
Можно ли познать право, исследуя только право? Развитие права в значительной степени предопределено развитием экономики, в настоящее время — развитием глобальной экономики. Глобальная экономика, будучи исторически новой реальностью,способна работать как единая система в режиме реального времени в масштабе всей планеты[4]. Глобализация экономики приводит к глобализации права[5]. Думается, что чем ближе право подойдет в своей исследовательской траектории к экономике, тем достовернее будут выводы и прогнозы, так как именно экономические и социальные изменения формируют новую картину мироустройства. Профессор Университета Отто Фридриха в Бамберге (Германия) Мартина Эккардт (Martina Eckardt), например, вводит понятие «эволюционирующей экономики», объясняющей изменения, происходящие в праве, рассматривая современные сдвиги на законодательном и правоприменительном уровнях в качестве механизмов, расширяющих перспективу соразвития права и технологий[6]. Новое экономическое устройство мира уже не удовлетворяется ранее сложившимися механизмами правового регулирования. Когда «лицо мира» изменилось, необходимо, чтобы и право изменилось[7].
Глобализация, еще в недостаточной степени изученная сточки зрения воздействия на право, уже реконфигурируется в связи с появлением платформ и облачной архитектуры. Платформа в самом простом виде определяется как совокупность онлайновых цифровых механизмов, алгоритмы которых обслуживают организацию и структуру экономической и социальной деятельности[8]. Так, одно из революционных изменений современной экономики — появление новых бизнес- и коммуникационных структур платформенного типа — породило новую терминологию для объяснения актуальных феноменов. Объектом исследования сегодня выступают «экономика по требованию» (the on-demand economy)[9], «экономика совместного потребления» (the sharing economy)[10], «совместная экономика»
(the peer-to-peer economy (Р-2-Р))[11], «потребительская экономика» (the human-to-human economy (H-2-H)[12], consumer-to-consumer economy (C2C)), экономика приложений (the Арр economy)[13], «всеобщая Уберизация» (the Uberization of everything)[14] и пр.
Каждый из этих терминов отражает тот или иной аспект революции цифровой платформы, демонстрирует парадигмальные сдвиги в том, как мы производим, потребляем, работаем, финансируем и учимся[15]. Примерами таких глобальных платформ служат Uber, eBay, Alibaba, Airbnb, Google, Amazon и пр. Самые известные современные платформы пришли из сферы В2С-контрактов, из сферы услуг.
2. КИБЕРПРАВО, «ПЛАТФОРМЕННОЕ ПРАВО» И ПРОЧИЕ КОНЦЕПТЫ ПРАВА КИБЕРПРОСТРАНСТВА: МИФЫ ИЛИ ФОРМИРУЮЩАЯСЯ РЕАЛЬНОСТЬ?
Убеждения юристов о компьютерах, их прогнозы о новых технологиях с большой вероятностью окажутся ложными.
Это должно поколебать наше желание устанавливать правовые конструкции киберпространства. Слепые — не лучшие проводники.
Фрэнк Г. Истербрук[16]
Эпиграф к этому разделу взят из богатой на аллегории статьи судьи Апелляционного суда США Фрэнка Г. Истербрука, где автор рассуждает о том, что могут предпринять юристы для регулирования киберпространства, и могут ли... По мнению автора, мы подвержены риску мульти дисциплинарного дилетантизма, или перекрестной стерилизации идей. Больше всего ошибок в законодательстве возникает тогда, когда технологии несутся вперед. Что с этим делать? По мнению автора, позволить юристам не силиться подогнать несовершенную правовую систему под эволюционирующий мир, который мы плохо понимаем. А вместо этого позволить участникам этого развивающегося мира принять собственные решения[17]. Небесспорная позиция,сформулированная в постфактум ной логике права. Так ли велик разрыв между правом и киберпространством, так ли недоступно «кибермасонство» юристам, и нужно ли разбираться в бытовой технике, чтобы регулировать сделки по ее купле-продаже?
Право имманентно государству, согласно позитивистской правовой парадигме, и имеет территориальный характер, локализовано в границах государств. В условиях развития информационно-коммуникационных технологий формируется и развивается новое пространство — киберпространство. Интернет, ввиду своей трансграничности, побуждает ученых квалифицировать его как sui generis юрисдикцию со своими собственными механизмами самоуправления и принуждения[18].
Как отмечает швейцарский профессор международного права Томас Шульц (Thomas Schultz), эволюция от социального норматива к правовой системе происходит постепенно; есть много промежуточных этапов между обыкновенным социальным порядком и полноценной правовой системой. При этом автор вводит определенный тест, позволяющий квалифицировать ту или иную нормативную систему как правовую: если данная нормативная система обладает автономной юрисдикцией принимать правила и обеспечивать их исполнение, она образует правовую систему. Значит, такая нормативная система обладает законодательной, судебной и исполнительной юрисдикци ей, позволяющей ей быть автономной от других систем[19].
Свобода пользователей Интернета в части отбора провайдеров, сайтов и пр. может выражаться в выборе соответствующего интернет- ресурса с презюмируемым подчинением его правилам. Онлайн-платформы живут в логике включения/выключения или доступа / не доступа, выстроенной вокруг определенного набора правил, которые принимает или не принимает пользователь. Органами принуждения же могут выступать онлайн — системные администраторы, «сисопы» (sysop — system operator, системный оператор), обладающие правом на применение механизма «изгнания» из сообщества, или «забанивания» (banishment)[20]. При этом нормотворцами в этой среде выступают сами онлайн-образования, которым пользователи фактически делегируют задачу разработки правил, упорядочивающих онлайн-коммуникацию. Так возникает «интернет-право» (law of the Internet): не из решения некоей высшей власти, но как совокупность предпочтений, избранных определенными операторами, вводящими правила, и отдельными пользователями, определяющими, к каким интернет-сообществам им присоединяться[21]. Управление интернет-сооб- ществом является, наряду с трансграничными сделками, той областью, в которой преобладает частное нормотворчество[22].
Глобальные цифровые платформы служат ареной возникновения, изменения и прекращения трансграничных частноправовых отношений, для регламентации которых используются многочисленные правовые инструменты, одним из которых выступает трансграничный контракт как центральный институт международного частного права. Наряду с термином e-commerce (электронная торговля), применимым к сделкам купли- продажи товаров или услуг через электронные системы, такие как Интернет и другие компьютерные сети, появился термин m-commerce (мобильная коммерция/торговля), означающий любую сделку, предполагающую передачу права собственности или прав на использование товаров и услуг, которая инициируется с помощью мобильного доступа в компьютерные сети с помощью электронного устройства[23].
На стыке права и информационных технологий возникают явления, обусловленные формированием новых массивов норм, которые концептуализируются в юридической науке под разными терминами: компьютерное право (computer law)[24], киберправо или право киберпространства (cyber or cyberspace law)[25], электронное коммерческое право (electronic commerce law)[26], электронное lex mercatoria (e-merchant law)[27], интернет-право (internet law)[28], право информационных технологий (information technology law (IT law))[29], информационное право[30], цифровое право[31], сетевое право[32] и пр.
Так как ключевыми провайдерами интер- нет-коммуникации выступают цифровые платформы, создающие свои наборы правил пользования и поведения на платформах, а также администрирующие споры, в литературе формулируется концепт права мировых торговых площадок, или «платформенного права» (the Law of Platform / Platform Law)[33], подвидами которого становятся eBay-law[34], Walmart law[35] и пр.
Содержание указанных выше дефиниций детерминировано тем, что именно их авторы и сторонники понимают под термином «сеть». Если сеть понимается как технический феномен, то источники регулирования сети есть технические сетевые стандарты (technical network standards), софты, коды, протоколы, веб-дизайн и прочие технические нормы и правила[36]. В таком случае речь не идет о транслировании правовых моделей на сетевую сферу, так как право есть регулятор социальных отношений с участием людей.
Одним из противников формирования концепта киберправа (cyber law) выступает американский ученый и практик Джозеф Соммер (Joseph Н. Sommer), который считает, что киберправа не существует и не может существовать. Его взгляды на киберправо достаточно любопытны и заслуживают внимания. Автор приходит к выводу, что большинство возникающих в связи с развитием технологий правовых вопросов вовсе не новы (банкиры, например, работают в киберпространстве уже 150 лет, с момента появления телеграфа), и действующее законодательство является достаточно гибким для того, чтобы справиться с соответствующими вызовами. Так, Дж. Соммер образно подмечает, что деликтное право вовсе не является «автомобильным правом», несмотря на то что автомобильная авария является хрестоматийным примером причинения вреда. Современные информационные технологии не являются исключениями. Возможно, Интернет и иные информационные технологии преобразят общество, но и автомобиль, паровой двигатель и промышленная революция, вероятно, в свое время также трансформировали американское право, но «право парового двигателя» никогда не существовало. Есть ли причины думать иначе в отношении «интернет-права»? Иными словами, по мнению автора, концепты «киберправа» и «интернет-права» являются бесполезными[37].
Относительно недавно мы позабыли о «космическом праве» и «праве атомной энергии», возможно, мы также забудем и о киберправе, как только Интернет перестанет быть технологией дня. Но наше право по-прежнему будет определять правила в отношении железных дорог, электростанций и даже Интернета. Однако мы вряд ли станем ассоциировать право с какой- либо конкретной технологией[38].
Однако существуют и иные взгляды на киберправо, интернет-право и прочие концепты, которые в рамках настоящей работы обобщенно оцениваются как правовые или субправовые образования. Так, например, профессор И. М. Рассолов, считая интернет-право правовым институтом, рассматривает его как некое системное объединение норм и правил, которые призваны воздействовать на общественные отношения, складывающиеся по поводу использования совокупности компьютерных сетей и информационных ресурсов, принадлежащих множеству разнообразных субъектов — организаций и граждан. Исследуемые нормы права регулируют отношения субъектов в киберпространстве и содержат предписания, дозволения, запреты и рекомендации, которые относятся к информационной деятельности в Интернете в целом[39]. При этом нельзя не согласиться с автором в том, что сетевое право представляет собой более глобальное явление по сравнению с интернет-правом, так как оно относится не только к деятельности субъектов в сети Интернет, но и к их взаимодействию в других информационно-телекоммуникационных сетях[40].
Т. Шульц, задаваясь вопросом о том, чему киберпространство может научить теоретиков права, выделяет две автономные частные правовые системы. Одна система соотносится автором с деятельностью Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), применимым правом для которой (если использовать терминологию коллизионного права) преимущественно выступает Единая политика разрешения доменных споров (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP). Прецедентное право UDRP (UDRP case law) характеризуется отчетливой материальной автономией от национальных законов о товарных знаках, которая увеличивается за счет формирования баз данных решений/прецедентов, принятых в рамках UDRP, и предоставляет владельцам товарных знаков гораздо большую защиту, чем национальные законы[41].
Вторая система, как пишет Т. Шульц, смоделирована eBay, американской компанией, предоставляющей услуги в областях интернет- аукционов и интернет-магазинов, и основана на принятых в рамках е-Вау политиках, базирующихся на тех практиках, которые появляются в сообществе е-Вау и фактически имеют транснациональную природу. Автономность системы е-Вау может быть артикулирована в случае, когда один и тот же потребительский спор решается в национальном суде или с использованием механизмов разрешения споров е-Вау: в первом случае применимы императивные нормы законодательства о защите прав потребителей, во втором — политики е-Вау[42]. В иностранной литературе можно встретить обоснование концепта «право eBay» (Law of eBay, или eBay law)[43], который фактически артикулирует спор среди экспертов киберправа (cyberlaw) относительно того, нужна ли / возможна ли автономная правовая юрисдикция киберпространства или законы отдельных государств могут быть приспособлены для обеспечения регулирования глобальной информационной инфраструктуры[44].
Профессор права Университета штата Пенсильвания Ларри Бейкер (Larry Cata Backer) утверждает, что Walmart — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, — стала важным актором в трансформации процесса правотворчества. Эта трансформация бросает вызов регуляторной монополии государства и может способствовать построению глобальной системы обычного права. Понимая результаты правотворчества как своего рода товар, автор считает, что в условиях отсутствия или неэффективности правового регулирования в той или иной сфере (особенно в области регулирования интернет-отношений) конкуренты государства в области нормотворчества, к коим автор относит и Walmart, могут предложить неплохой продукт — предсказуемые нормы, которые соответствуют ожиданиям[45].
Дж. Соммер постулирует, что технологии, как и право, социально опосредованы и редко напрямую приводят к существенным изменениям в праве. Представляется не лишенным смысла образное выражение автора о том, что киберпространство стало сегодня лишь еще одним полем битвы для некоторых очень старых войн[46], так как оно актуализирует многие проблемы, решения которых так и не были найдены в контексте актуальной правовой парадигмы. Киберпространство обеспечивает реновацию старых полемик и дает определенную надежду на отыскание новых моделей их разрешения. Так, например, нерешенная до конца на протяжении нескольких столетий проблема государственного суверенитета возрождается через проблематику информационного суверенитета, порожденного формированием киберпространства. То же можно сказать о многих правовых институтах, которые, возможно, удастся тщательнее рассмотреть через «киберлупу».
3. КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И ПРАВОВОЙ РЫНОК
Любая электронная транзакция включает условия, доступные по гиперссылке или путем прокрутки экрана с условиями. При изучении пользовательских соглашений, которые являются, по сути, договорами присоединения, Google, eBay, Amazon и прочих компаний платформенного типа, объемы продаж которых сопоставимы с бюджетами отдельных государств и субъектами которых становятся миллионы людей, можно найти любопытные условия.
Оговорка о применимом праве в пользовательских соглашениях eBay, Google, Amazon Web Services
Пользовательское соглашение eBay, раздел «Правовые конфликты»[47] | Условия пользования Google[48] | Пользовательское соглашение Amazon Web Services / AWS Customer Agreement[49] |
«Вы согласны с тем, что, за исключением ситуаций, относящихся к юрисдикции федерального законодательства, это Пользовательское соглашение и любой конфликт, возникший или могущий возникнуть между вами и eBay, регулируется законами штата Юта, США, без учета норм коллизионного права, кроме случаев, когда в настоящем Пользовательском соглашении указано иное» | «В некоторых случаях суды ряда стран не признают законодательство Калифорнии. Если вы проживаете в одном из таких регионов, законодательство Калифорнии не будет применяться при рассмотрении исков, связанных с данными Условиями использования. В противном случае вы соглашаетесь с тем, что все споры в отношении Условий использования или Служб будут разрешаться в соответствии с законодательством штата Калифорния (США), исключая положения о конфликте законов» | «13.4 Применимое право Применимое право, исключая коллизионные нормы, регулирует настоящее соглашение и любой спор любого рода, который может возникнуть между вами и нами. Конвенция Организации Объединенных Наций о между народной купле-продаже товаров не применяется к настоящему Соглашению». Далее в соглашении указывается, что если стороной по контракту выступает Amazon Web Services ЕМЕА SARL, то применимым правом является законодательство Великого герцогства Люксембург. Если стороной по контракту выступает Amazon Web Services, Inc., применимым правом является право штата Вашингтон (США) |
Указанные оговорки демонстрируют инкорпорированный в пользовательские соглашения выбор применимого права при очень условной автономии воли сторон. Во-первых, оговорки свидетельствуют об исключении применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., что, однако, вытекает и из самого текста Конвенции, когда речь идет о договорах с потребителями. Во-вторых, оговорки о выборе права аргументируют крайне любопытную и мало изученную в российской доктрине международного частного права тенденцию, суть которой сводится к тому, что при регулировании тех или иных сегментов трансграничных отношений в качестве применимого права стандартно выбирается право одной и той же юрисдикции. Легитимным основанием для этого служит принцип автономии воли сторон (lex voluntatis), породивший так называемый правовой рынок (law market), на котором определенные национальные законы в силу тех или иных причин «продаются» лучше и де-факто становятся глобальными законами различных отраслей[50]. Например, договоры международной перевозки традиционно подчиняются английскому праву. А франчайзинговые отношения выстраиваются на основе норм американского права. К международным сделкам своп применяется английское право или право штата Нью-Йорк (ISDA Master agreements). Такая практика нередко закрепляется в качестве стандартных условий типовых проформ договоров. Собственно, профессиональные объединения, разрабатывающие такие проформы, сами во многом популяризируют право (закон) того или иного государства. Такая «доминирующая» в той или иной области юрисдикция косвенно влияет и на содержание норм негосударственного регулирования, разрабатываемых в рамках соответствующей отрасли[51]. Условность автономии воли сторон в пользовательских соглашениях, опосредующих деятельность технологических или цифровых платформ, формирует ситуацию правового доминирования, а именно американизации «платформенного права».
Применимость соответствующих оговорок о выборе права в договорах с участием потребителя — в контексте оценки таких соглашений как договоров присоединения и потому условности автономии воли сторон (потребителя) — следует оценивать через призму норм ст. 1212 Гражданского кодекса РФ. Выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является потребитель, не может повлечь за собой лишение такого потребителя защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительства потребителя, если контрагент потребителя (профессиональная сторона) осуществляет свою деятельность в стране места жительства потребителя либо любыми способами направляет свою деятельность на территорию этой страны (выделено мной. — М. М., так как это имеет отношение к цифровым платформам) или территории нескольких стран, включая территорию страны места жительства потребителя, при условии, что договор связан с такой деятельностью профессиональной стороны. В этом случае к договору с участием потребителя применяется право страны места жительства потребителя (п. 1—2 ст. 1212 Гражданского кодекса РФ[52]).
4. АРБИТРАЖ И 0DR В ПРАКТИКЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
Пользовательские соглашения с компаниями платформенного типа также зачастую содержат оговорки о разрешении споров путем применения альтернативного и онлайн-разрешения споров (ADR-, ODR-процедур) и посредством арбитража. Причем уже существует достаточно обширная судебная практика по вопросам легитимности соответствующих арбитражных соглашений, где исследуются вопросы квалификации презюмируемой осведомленности (constructive notice) потребителя об арбитражной оговорке в зависимости от типа сайтов, на которых размещаются условия онлайн-контрак- тов: browsewrap[53] и clickwrap[54].
В одном из таких споров — по делу Craig Comb, et al. v. PayPal, Inc. — суд счел, что пользовательское соглашение PayPal и содержащаяся в нем арбитражная оговорка являются недобросовестными по законодательству штата Калифорния. Соответственно, суд отклонил ходатайство PayPal о возбуждении арбитражного разбирательства. Пользовательское соглашение PayPal было признано судом недобросовестным в силу его квалификации в качестве договора присоединения, коим в соответствии с законодательством штата Калифорния признается «стандартный договор», составленный и навязываемый более сильной стороной в сделке, предоставляющий подписывающей его стороне лишь возможность присоединиться к договору или отклонить его. Суд постановил, что пользовательское соглашение и содержащаяся в нем арбитражная оговорка являются недобросовестными, поскольку они:
- позволяют PayPal в любое время без уведомления пользователей вносить обязательные изменения в пользовательское соглашение;
- обязывают пользователей разрешать их споры в соответствии с коммерческими правилами Американской арбитражной ассоциации, что экономически невыгодно с учетом среднего размера стоимости транзакций через PayPal;
- обязывают пользователей, проживающих по всей стране (США), чтобы арбитраж осуществлялся в округе Санта-Клара, штат Калифорния, где находится PayPal;
- разрешает PayPal «замораживать» средства на счетах клиентов до разрешения спора;
- содержат запреты на коллективные иски.
Оценивая эти обстоятельства в совокупности, суд постановил, что данные положения пользовательского соглашения PayPal позволяют квалифицировать его как недобросовестное и представляют собой попытку PayPal оградить себя на договорной основе от любого оспаривания не внушающей доверия практики PayPal[55].
PayPal обеспечивает сегодня покупку и продажу товаров через Интернет, получая прибыль от своих услуг путем взимания комиссий за транзакции. Для использования услуг PayPal покупатель и продавец должны открыть счета PayPal. Это, в свою очередь, требует от покупателя и продавца выразить согласие на соблюдение условий пользовательского соглашения PayPal. PayPal в настоящее время обслуживает 12 млн аккаунтов. Средний размер сделки с помощью PayPal составляет 55 долл.[56]
Практические аналогичные PayPal-оговорке[57] нормы содержатся в пользовательских соглашениях Amazon, eBay.
Не только договорная область подверглась изменениям под воздействием платформ сетевого взаимодействия. Последние позволяют провести реновацию сферы разрешения споров, обеспечивают развитие технологий «эффективной юстиции» (efficient justice), позволяющих «потребителям правосудия» обойти неэффективность государственного регулирования и юстиции[58]. Технологии смарт-контрактов, мобильная коммерция стимулируют развитие систем онлайн-разрешения споров (ODR), он- лайн-арбитраж, Blockchain-арбитраж[59] и пр., формируя новую информационно-правовую реальность.
В случае возникновения конфликтов между пользователями eBay рекомендует использовать систему ODR. EBay начал использовать ODR-системы с 1999 г. в тандеме с Центром информационных технологий и разрешения споров Массачусетского университета, в частности посредством обращения к медиативной процедуре как одному из способов ADR. Позже поставщиком ODR-услуг для eBay стала площадка SquareTrade. Однако с 2008 г. eBay преимущественно использует ODR-системы, встроенные непосредственно в сервисы разрешения споров с клиентами eBay и PayPal: в случае когда спор не может быть решен непосредственно между покупателем и продавцом через ODR- платформу eBay, такой спор перенаправляется в службу разрешения споров (Resolution Services Team).
Наблюдения за ADR-процедурами на платформе eBay привели некоторых исследователей к выводам о том, что спорящие стороны в ходе диспута находятся как бы «в тени права» и этим правом является вовсе не право какой-либо юрисдикции, а право eBay. Готовность пользователей участвовать в ADR-процедурах была во многом продиктована тем, что это влияло на дальнейший статус пользователя eBay, его «репутацию» или рейтинг на платформе. Методика администрирования сделок и разрешения споров, вытекающих из них, сконструирована на платформе eBay таким образом, что позволяет некоторым авторам квалифицировать eBay в качестве самостоятельной юрисдикции, судебного органа и даже некоего образования, которое может считаться обладающим суверенной властью, понимаемой в самом широком смысле, над онлайн-жизнями пользователей[60].
Стремительное развитие интернет-торговли на базе электронных торговых площадок привело к целому ряду серьезных научных исследований, преимущественно в иностранной доктрине, посвященных транснациональному потребительскому праву (Transnational Consumer Law) в контексте электронной коммерции[61]. Потребительское право, проистекающее из норм и стандартов национальных правовых систем, подвергается критике как тормозящее развитие трансграничной торговли. Профессор Института коммерческого права Бременского университета Гральф-Питер Каллесс (Gralf-Peter Calliess) видит альтернативу эрозиру- ющему в глобализирующемся мире национальному потребительскому праву в формировании транснационального потребительского права, которое, по мнению автора, достаточно радикально автономизируется от государственного права[62]. Несмотря на высокую степень дискуссионное™ такого подхода, подвергнутого критике, в частности, в статье немецкого профессора сравнительного и европейского экономического права Норберта Рейха[63] (Norbert Reich), автономные от государства нормативные системы все чаще становятся предметом осмысления современной юридической науки. Профессор права Университета Вилламетт Симеон Симео- нидис (Symeon С. Symeonides) также достаточно критичен в отношении норм негосударственного регулирования применительно к трансграничным отношениям с участием потребителей, к трансграничным трудовым отношениям и любым иным, в которых с очевидностью присутствует «слабая сторона». Автор исходит из того, что обязанностью государства, реализованной в национальном праве, является защита прав соответствующих сторон[64].
5. ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО VS. КИБЕРПРАВО
Киберпространство меняет экономический и социальный уклад современного мира. Как регулировать отношения, возникающие в этой новой среде? Посредством старых механизмов или изобретая новые? Поставим вопрос несколько уже: что окажется более жизнеспособным в современных условиях — международное частное право или киберправо?
Киберпространство в некотором смысле не уникальная социальная практика, которая бросает вызов актуальному ей праву. Возможно, это то новое, которое есть хорошо забытое старое?

И как развитие торгового мореплавания стало новой социальной практикой для средневековой Европы в период феодальной раздробленности, так и киберпространство «перепахивает» фрагментированное правовое поле в эпоху четвертой промышленной революции.
По мнению российского юриста-международника А. Н. Макарова, средневековая наука международного частного права зародилась тогда, когда оказались налицо основные предпосылки возникновения коллизионных вопросов: 1) охватывающий подлежащие территории достаточно интенсивный гражданский оборот; 2) сосуществование территориально разграниченных гражданских правопорядком. Еще один выдающийся российский специалист в области международного частного права М. И. Брун, говоря о зарождении конфликтного права, пишет, что средневековые итальянские и французские юристы, идя навстречу потребностям практики, создали при помощи старых материалов новое право[67] [68]. Может быть, международное частное право способно «выручить» нас снова?
Собственно, упрощенно вопрос состоит в следующем: как решить проблему юрисдикции в киберпространстве и какое право применимо к регулированию отношений, возникающих в киберпространстве? Средневековые юристы, пытаясь обеспечить сосуществование разных правопорядком искали ответы в римском праве, обращаясь, по образному выражению М. И. Бруна, с римскими текстами, как с каучуковым платьем, которое растягивали, чтобы одеть в него чрезмерно разросшееся тело новой общественной жизни с ее непредусмотренными правоотношениями[69]. В итоге новое платье автономной правовой системы не было скроено, но сформировалась система коллизионных норм, предписывающих применение того или иного правопорядка к отношению, осложненному иностранным элементом.
Какова политика современных «костюмеров» (в терминологии М. И. Бруна)? Приведет ли она к появлению автономного киберправа? Позволим себе сохранить убежденность в том, что не приведет, как и паровой двигатель, телефон, атомная энергия или освоение космоса, принципиально изменившие социальную действительность, не породили соответствующих правовых анклавов. Не технология порождает новое право, но право адаптируется к новой технологии. При этом международное частное право является наиболее способным к адаптации, будучи по своей сути правом коллизионным, призванным регулировать проблему конфликта юрисдикций. Оно неплохо справляется с конфликтами национальных юрисдикций, обладая значительным арсеналом гибких инструментов, что позволяет испытывать уверенность и в его способности разрешать конфликты национальной юрисдикции и юрисдикции в киберпространстве, что находит свое отражение в огромном и постоянно нарастающем массиве судебных и арбитражных решений.
Одним из таких инструментов является достаточно универсальный механизм определения применимого права, который уже содержится во многих кодификациях по международному частному праву разных стран мира. В российском Гражданском кодексе это положения п. 2 ст. 1186, имеющие значительный прогностический потенциал: «Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано». В контексте п. 1 ст. 1186 ГК РФ и применительно к отношениям в киберпространстве это может звучать так: если отношение выходит за рамки юрисдикции одного государства, но международным договором не предусмотрены материальные нормы, регулирующие соответствующее отношение по существу, а также на основе имеющихся коллизионных норм невозможно определить применимое право, применяется право страны, с которым такое отношение наиболее тесно связано. Это и есть тот смысловой заряд, который способен запустить реакцию выработки новых критериев тесной связи и снова создать «при помощи старых материалов новое право»[70].
БИБЛИОГРАФИЯ
- Брун М. И. Очерки истории конфликтного права. — М., 1915.
- Рассолов И. М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. — 2-е изд., доп. — М. : Норма, 2009.
- Н. Consumer click arbitration: a review of online consumer arbitration agreements//Arbitration Law Abstract. — 2017. — Vol. 1.
- Gonzalez A. G. eBay Law: The legal implications of the C2C electronic commerce model I I Computer Law & Security Abstract. — 2003. — Vol. 19. — Iss. 6.
- Johnson D. R., Post D. Law and Borders-The Rise of Law in Cyberspace // Stanford Law Abstract. — 1996. — Vol. 48.
- Katsh E., Rifkin J., Gaitenby A. E-Commerce, E-Disputes, and E-Dispute Resolution: In the Shadow of «eBay Law» I I Ohio State Journal on Dispute Resolution. — 2000. — Vol. 15. — No 3.
- Lobel O. The Law of the Platform I I Minnesota Law Abstract. — 2016. — Vol. 101.
- Menthe D. C. Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces // Michigan Telecommunications and Technology Law Abstract. — 1998. — Vol. 4.
- Post D. Governing Cyberspace // Wayne Law Abstract. — 1992. — Vol. 43.
- Schultz T. Private legal systems: what cyberspace might teach legal theorists // Yale Journal of Law and Technology. — 2008. — Vol. 10.
- Sommer J. H. Against Cyberlaw I I Berkeley Technology Law Journal. —2000. — Vol. 15.
REFERENCES
- Brun M.l. Ocherki istorii konfliktnogo prava [Essays on History of Conflict of Law], Moscow, 1915.
- Rassolov I.M. Pravo i internet. Teoreticheskie problemy [Law and the Internet. Theoretical issues], 2nd, suppl. Moscow: Norma Publ., 2009.
- vasteel J.H. Consumer click arbitration: a review of online consumer arbitration agreements. Arbitration Law Abstract. 2017. Vol. 1.
- Gonzalez A. G. eBay Law: The legal implications of the C2C electronic commerce model. Computer Law & Security Abstract. 2003. Vol. 19. Iss. 6.
- Johnson D.R., Post D. Law and Borders-the Rise of Law in Cyberspace. Stanford Law Abstract. 1996. Vol. 48.
- Katsh E., Rifkin J., Gaitenby A. E — Commerce, E-Disputes, and E-Dispute Resolution: In the Shadow of "eBay Law". Ohio State Journal on Dispute Resolution. 2000. Vol. 15. No. 3.
- Lobel O. The Law of The Platform. Minnesota Law Abstract. 2016. Vol. 101.
- Menthe D.C. Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces. Michigan Telecommunications and Technology Law Abstract. 1998. Vol. 4.
- Post D. Governing Cyberspace. Wayne Law Abstract. 1992. Vol. 43.
- Schultz T. Private legal systems: what cyberspace might teach legal theorists. Yale Journal of Law and Technology. 2008. Vol. 10.
- Sommer J.H. Against Cyberlaw. Berkeley Technology Law Journal. 2000. Vol. 15.
Goldsmith J. L. Against Cyberanarchy // University of Chicago Law Occasional Paper. 1999. No. 40 ; Goldsmith J. L. Regulation of the Internet: Three Persistent Fallacies // Chicago-Kent Law Review. 1998b.
[2] Sommer J. Н. Against Cyberlaw 11 Berkeley Technology Law Journal. 2000. Vol. 15. P. 1231.
[3] Freeman S. 'Uberization' of Everything Is Happening, but Not Every 'Uber' Will Succeed // URL: http:// www.huffingtonpost.ca/2015/04/01/uberization-uber-of-everything_n_6971752.html
[4] Кастельс M. Информационная эпоха: экономика, общество и культура // URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/02.php (дата обращения: 26.12.2017).
[5] О влиянии глобализации экономики на право: Snyder F. Economic globalisation and the law in the 21st century //Sarat Austin (ed.) The Blackwell Companion to Law and Society. Blackwell Companions to Sociology. Blackwell Publishing. 2004. Pp. 624—640.
[6] Цит. no: Calliess G.-P, Zumbansen P. Law, the State, and Evolutionary Theory: Introduction 11 URL: https:// works.bepress.com/peer_zumbansen/89/ (дата обращения: 07.10.2016).
[7] Мак V. Globalization, Private Law and New Legal Pluralism 11 New York University School of Law. New York, 2015. P. 3.
[8] Kenney M., Zysman J. The Rise of the Platform Economy 11 Issues in Science and Technology. 2016. Vol. 32. No. 3. Pp. 61, 65.
[9] Hill K. Meet the Lawyer Taking on Uber and the Rest of the On-Demand Economy // URL: http://www. fusion.net/story/118401/meet-the-lawyer-taking-on-uber-and-the-on-demand-economy
[10] См.: Шваб К. Четвертая промышленная революция : пер. с англ. М. : Эксмо, 2018. С. 39 ; The Rise of the Sharing Economy // Economist. May 9. 2013. URL: http://www.economist.com/node/21573104 (дата обращения: 29.12.2018).
[11] The Rise of the Sharing Economy.
[12] Lowery T Human to Human (H2H) — Collaboration Is the New Competition //URL: http://www.huffingtonpost.com/tom-lowery/human-to-humancollaborati_b_4696790.html (дата обращения: 12.10.2018).
[13] MeyerR. The App Economy Is Now 'BiggerThan Hollywood'//URL: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/01/the-app-economy-is-now-bigger-than-hollywood/384842 (дата обращения: 15.10.2018).
[14] Freeman S. Op. cit.
[15] Lobel O. The Law of the Platform 11 Minnesota Law Review. 2016. Vol. 101. P. 89.
[16] Easterbrook F. H. Cyberspace and the Law of the Horse 11 University of Chicago Legal Forum. 1996. Vol. 1996.
[17] Easterbrook F. H. Op. cit. Pp. 207, 215-216.
[18] Radin M. J., Wagner R. P. The Myth of Private Ordering: Rediscovering Legal Realism in Cyberspace 11 Chicago- Kent Law Review. 1998. Vol. 73. P. 1307.
[19] Schultz T. Private legal systems: what cyberspace might teach legal theorists // Yale Journal of Law and Technology. 2008. Vol. 10. Pp. 168,173-176.
[20] Radin M. J., Wagner R. P. Op. cit. P. 1310.
[21] Post D. Governing Cyberspace 11 Wayne Law Review. 1992. Vol. 43.
[22] Schiek D. Private rule-making and European governance — issues of legitimacy 11 European Law Review. 2007. 20 (1). P. 3.
[23] Wild Ch., Weinstein S., MacEwan N., Geach N. Electronic and Mobile Commerce Law: An analysis of trade, finance, media and cybercrime in the digital age. Hatfield Hertfordshire : University Of Hertfordshire Press, 2011. P. VIII.
[24] Reed C., Angel J. (eds). Computer Law: The Law and Regulation of Information Technology. Oxford University Press, 2011; Bainbridge D. Introduction to Computer Law. 5th edn. Pearson Education Limited, 2004; Raysman R. Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and Agreements 11 Law Journal Press. 1984.
[25] Bird R. and Others. Cyber Law: Text and Cases. Cengage, 2011; RosenoerJ. Cyber Law: The Law of the Internet. Springer, 1997 ; Ku R. S. R., Lipton J. (eds). Cyberspace Law: Cases and Materials. 3rd edn. Aspen Publisher, 2010; Travis H. (ed). Cyberspace Law: Censorship and Regulation of the Internet. Routledge, 2013.
[26] Wild Ch., Weinstein S., MacEwan N., Geach N. Op. cit.
[27] Trakman L. E. From the Medieval Law Merchant to E-Merchant Law //The University of Toronto Law Journal. 2003. Vol. 53. No. 3. Pp. 265-304.
[28] См.: Рассолов И. M. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М. : Норма, 2009 ; Smith G. J. Н. (ed). Internet Law and Regulation. Sweet & Maxwell, 2007 ; Reed C. Internet Law: Text and Materials. Cambridge University Press, 2004; Savin A. EU Internet Law. Edward Elgar Publishing, 2013.
[29] Murray A. Information Technology Law: The Law and Society. Oxford University Press, 2010; Lloyd I. Information Technology Law. 6th edn. Oxford University Press, 2011; Rowland D., Kohl U., Charlesworth A. Information Technology Law. 4th edn. Routledge, 2012 ; Mooney Cotter A.-M., Babe C. (eds). Information Technology Law. Cavendish, 2004.
[30] См.: Рассолов И. M. Информационное право : учебник для магистров. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013 ; Бачило И. Л. Актуальные проблемы информационного права // НТИ (теоретические проблемы информационного права). 2001. № 9; Бачило И. Л. Информационное право. М., 2001; ТедеевА. А. Информационное право (право Интернета). М., 2005; ГрибановД. В. Правовое регулирование кибернетического пространства как совокупности информационных отношений : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.
[31] Радченко М. Ю., ГорбуновВ. П. Цифровое право будущего //Третья Всероссийская конференция «Право и Интернет: теория и практика», 28—29 ноября 2000. С. 47—53. URL: http://www.hostcentre.ru/hosting/files/5_2/pr_int.pdf.
[32] ГолоскоковЛ. В. Теория сетевого права / под ред. А. В. Малько. СПб., 2006. С. 32.
[33] Lobel О. Op. cit.; Katya! S. К., Grinvald L. C. Platform Law and the Brand Enterprise 11 Berkeley Technology Law Journal. 2017. Vol. 32. Pp. 1135-1182.
[34] Gonzalez A. G. eBay Law: The legal implications of the C2C electronic commerce model 11 Computer Law & Security Review. 2003. Vol. 19. Iss. 6 December. Pp. 468—473 ; Katsh E., Rifkin J., Gaitenby A. E-Commerce, E-Disputes, and E-Dispute Resolution: In the Shadow of «eBay Law»//Ohio State Journal on Dispute Resolution. 2000. Vol. 15. No. 3. Pp. 705-734.
[35] Backer L. C. Economic Globalization and the Rise of Efficient Systems of Global Private Lawmaking: Wal-Mart as Global Legislator // Connecticut Law Review. 2007. Vol. 39. No 4. May. Pp. 3—46.
[36] Vesting T. The Autonomy of Law and the Formation of Network Standards 11 German Law Journal. 2004. Vol. 5. No. 6. Pp. 644-645.
[37] Sommer J. H. Against Cyberlaw 11 Berkeley Technology Law Journal. 2000. Vol. 15. Pp. 1147,1228—1229.
В российской науке подобным образом обосновывалось, что юридические предписания, касающиеся сети Интернет, не обусловливают появление специального правового отраслевого образования. По мнению Л. В. Горшковой, в силу неоднородного характера отношений, реализующихся в сети Интернет, данные отношения являются объектом правового регулирования норм международного права и норм различных отраслей национального права, включая международное частное право (Горшкова Л. В. Правовые проблемы регулирования частноправовых отношений международного характера в сети Интернет : автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8).
[38] Sommer J. Н. Op. cit. R 1151.
[39] Рассолов И. М. Право и Интернет ... С. 19.
[40] Рассолов И. М. Право и Интернет ... С. 15.
[41] Schultz Т. Op. cit. Р. 178.
[42] Schultz Т. Op. cit. Р. 179.
[43] Katsh Е., Rifkin J., Gaitenby A. Op. cit.; Gonzalez A. G. eBay Law: The legal implications of the C2C electronic commerce model 11 Computer Law & Security Report. 2003. Vol. 19. No. 6. Pp. 469—470.
No. 73 ; Johnson D. R., Post D. Law and Borders-The Rise of Law in Cyberspace 11 Stanford Law Review. 1996. Vol. 48. Pp. 1366-1402.
[45] Backer L. C. Economic Globalization and the Rise of Efficient Systems of Global Private Lawmaking: Wal-Mart as Global Legislator //Connecticut Law Review. 2007. Vol. 39. No 4. Pp. 3—46.
[46] Sommer J. H. Op. cit. P. 1149.
[47] Пользовательское соглашение eBay 11 URL: https://www.ebay.com/pages/ru/help/ua_previous.html (дата обращения: 17.12.2018).
[48] Условия пользования Google // URL: https://policies.google.com/terms?hl=ru (дата обращения: 17.12.2018).
[49] AWS Customer Agreement // URL: https://aws.amazon.com/ru/agreement/ (дата обращения: 17.12.2018). Соглашение на англ, языке. Представлен недословный перевод автора.
[50] O'Hara Е., Ribstein L. Е. The Law Market. Oxford : Oxford University Press, 2009.
[51] См.: Мажорина M. В. Международное частное право в условиях глобализации: от разгосударствления к фрагментации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 1. С. 211.
[52] Справочно-информационная система «ГАРАНТ».
[53] Browsewrap означает пассивное согласие с условиями онлайн-контракта. На browsewrap-сайтах потребитель может совершить сделку без необходимости активными действия выразить согласие с условиями договора. На таких сайтах обычно где-то дается гиперссылка, кликнув на которую можно увидеть условия договора. В большинстве случаев арбитраж не применяется, когда условия о нем были представлены в документах, размещенных на browsewrap-сайте, за исключением случаев, когда будет установлено, что потребитель знал об арбитражной оговорке или обладает специальными знаниями в этой области (см.: DasteelJ. Н. Consumer click arbitration: a review of online consumer arbitration agreements 11 Arbitration Law Review. 2017. Vol. 1).
[54] Clickwrap означает активное принятие потребителем условий онлайн-контракта. Clickwrap-тип сайтов требует от потребителя кликнуть на поле, где указаны условия сделки, до того, как она будет совершена. При размещении оговорки об онлайн-арбитраже на сайтах данного типа, которые отображают условия контракта на том же экране, где находится кнопка «принять условия», соответствующие арбитражные соглашения, как правило, исполняются принудительно даже в тех случаях, когда потребитель фактически не читал условий контракта (см.: DasteelJ. Н. Op cit.).
[55] Craig Comb, et al. v. PayPal, Inc. Cases No. C-02-1227 and C-02-2777 JF (N. D. Cal., August 30, 2002) // URL: https://casetext.com/case/comb-v-paypal-inc-2.
См. также: URL: http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case302.cfm (дата обращения: 02.01.2019).
[56] URL: http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case302.cfm (дата обращения: 02.01.2019).
[57] Недословный текст оговорки пользовательского соглашения PayPal: «Любые споры или претензии, возникающие в связи с настоящим Соглашением или предоставлением услуг, подлежат разрешению посредством обязательного арбитража в соответствии с правилами коммерческого арбитража Американской арбитражной ассоциации. Любое такое разногласие или требование должно быть рассмотрено в арбитраже на индивидуальной основе и не должно быть объединено в любом арбитраже с любым иском или противоречием любой другой стороны. Арбитражное разбирательство проводится в округе Санта-Клара, штат Калифорния. Вы или PayPal можете обратиться в суд компетентной юрисдикции округа Санта-Клара, штат Калифорния, за любой временной или предварительной защитой, необходимой для защиты ваших прав или собственности PayPal, Inc. (или его агентов, поставщиков и субподрядчиков) до завершения арбитражного разбирательства». Цит. по: URL: http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case302.cfm (дата обращения: 02.01.2019).
[58] Тутыхин В. Право 2.0 //URL: http://vvtlaw.com/articles/pravo-2-0/ (дата обращения: 28.12.2018).
[59] См., например, проект SAMBA — Smart Arbitration & Mediation Blockchain Application (URL: http://www.miamiblockchaingroup.com/ (дата обращения: 30.12.2018)).
[60] Katsh E., Rifkin J., Gaitenby A. Op. cit.
[61] Calliess G.-P. Transnational Consumer Law: Co-Regulation of B2C-E-Commerce 11 Responsible business: selfgovernance in transnational economic transactions. O. Dilling, M. Herberg & G. Winter, eds. Oxford : Hart Publishing, 2008. Pp. 225—258 ; Reich N. Transnational Consumer Law-Reality or Fiction? // Penn State International Law Review. 2009. Vol. 27. No. 3. P. 859—868.
[62] Calliess G.-P. Op. cit.
[63] Reich N. Op. cit.
[64] Symeonides S. C. Party Autonomy and Private-Law Making in Private International Law: The Lex Mercatoria that Isn't (November 19, 2006) // Festschrift fur Konstantinos D. Kerameus 1397—1423 (Ant. N. Sakkoulas & Bruylant Publishers 2009). URL: https://ssrn.com/abstract=946007 ; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.946007 (дата обращения: 14.05.2018).
[65] См.: Гетьман-Павлова И. В. Истоки науки международного частного права: школа глоссаторов // Журнал международного публичного и частного права. 2010. № 2. С. 17—23.
[66] Menthe D. С. Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces // Michigan Telecommunications and Technology Law Review. 1998. Vol. 4. P. 102.
[67] Макаров А. Н. Основные начала международного частного права. М., 1924.
[68] Брун М. И. Очерки истории конфликтного права. М., 1915. С. 5.
[69] Брун М. И. Указ. соч. С. 10.
[70] Брун М. И. Указ. соч. С. 5.
[71] The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for basic research (RFBR) in the framework of the research project № 18-29-16061 "Network law in a network society: new regulatory model" that is implemented according to the results of the competition for the best research projects of interdisciplinary fundamental research (code of the competition 26-816 "Transformation of law in the context of digital technologies development").





