Семиотический анализ онтологической структуры праваДискуссионный
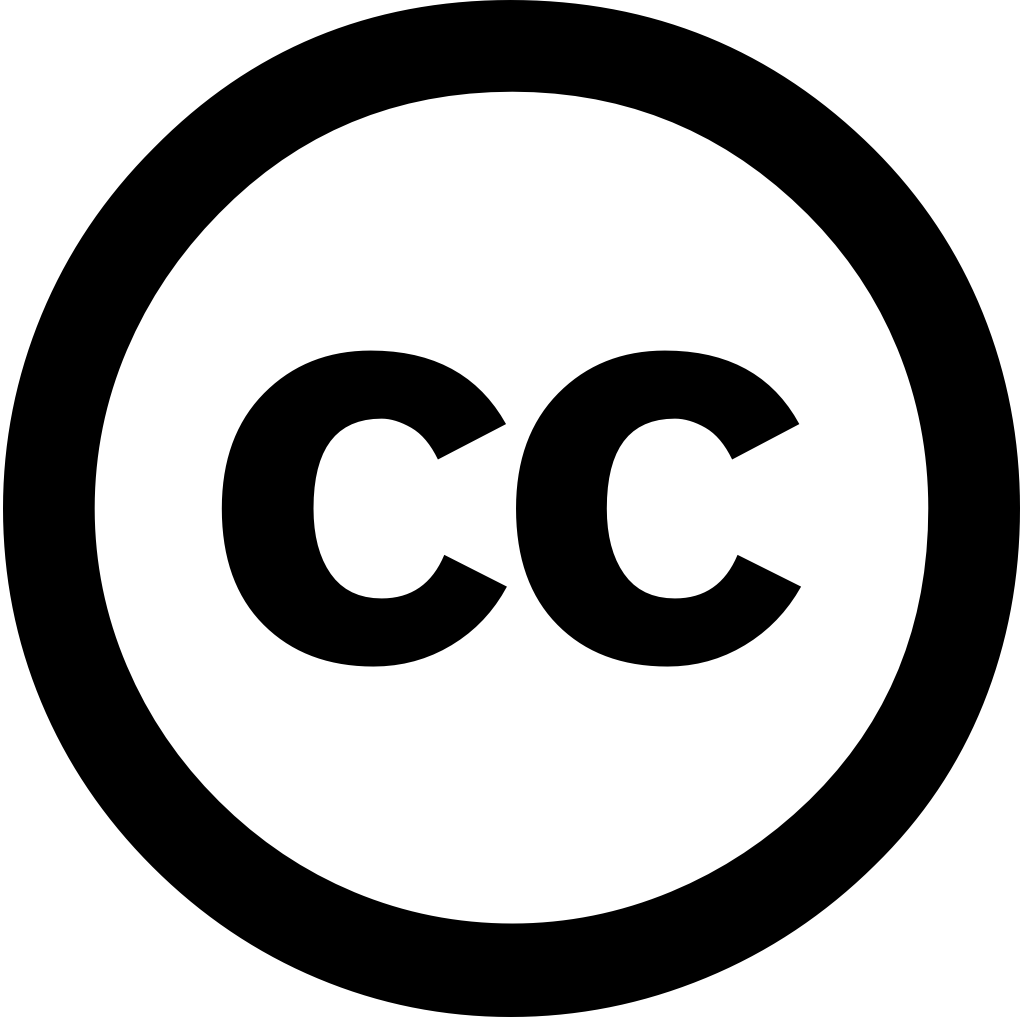

Published: Dec. 1, 2010
Latest article update: April 19, 2023
Abstract
В статье анализируется онтологическая структура права с позиций семиотики. Автор рассматривает в качестве онтологического основания права правовую ситуацию. Особое внимание уделено субъекту права и его ценностным суждениям. Содержащиеся в статье выводы о праве как элементе культуры имеют важное значение для современной методологии его познания.
Keywords
Метаязык юриспруденции, структура права, признание, правовая культура, правовая ситуация
Каждый раз, размыкая для исследователя границы, детерминированные разнообразными факторами, правоведение возвращает его к одному и тому же вопросу — что есть право? Он может быть сформулирован иначе: каков тот способ существования сущего, которое получает признание в качестве правового? Ставя так вопрос и переходя к анализу эмпирического материала, правовед может рассчитывать на прояснение онтологической проблематики юридической науки. Разумеется, при непременном условии, что в итоге он укажет на акт официального признания конкретного способа существования сущего именно как правового, а не как, скажем, политического, и определит особенности той социальной реальности, в которой участник общественных отношений может проявить себя как субъект права.
Решая эти задачи, правовед должен быть готовым к диалогу с иными юридическими традициями, чем его собственная. Как полагает Р. Давид, «необходимое взаимодействие или простое сосуществование требуют, чтобы мы открыли наши окна и посмотрели на зарубежное право»1. Для этого в нашем распоряжении должна оказаться методология, адекватная предмету исследования, т.е. различным способам существования права и приемам его осмысления в том или ином культурном контексте. По замечанию Н. Рулана, мир переживает «процессы аккультурации, связанные с распространением права... процессы смешения юридических норм»2. Обозначенные процессы развиваются по двум основным направлениям.
Во-первых, сфера действия позитивного права в западной юридической традиции расширяется за счет освоения законодателем различных областей социальной жизни. «То, что законодатели, как минимум, на Западе, пока не вмешиваются в такие области жизни людей, как их высказывания, выбор брачного партнера, путешествия или манера одеваться, обычно позволяет не обращать внимания на то, что на практике у них есть полномочия, чтобы вмешаться в любую из них»3, — пишет Б. Леони. При этом принципиально важным является не сам факт чрезмерного регулирования законодателем общественных отношений, а гибкость структуры права, реагирующей на изменения в социальных практиках. Так, анализируя современные правовые системы, правовед выходит за рамки юридической догматики для того, чтобы осмыслить притязание как право, долг как обязанность, игрока на социальном поле — лак участника правоотношения. Разумеется, что каждое социальное поле, в том числе и юридическое, сохраняет свою автономию, но уже многие социальные явления можно выразить в терминах юридической науки, переведя их на язык права. Это относительно простая процедура, если согласиться с тем, что «тот, кто занимает в одной игре позицию слева — “а”, находится по отношению к тому, кто занимает позицию справа “Ь”, в таком же положении, в каком тот, кто занимает в другой игре позицию слева “А”, находится по отношению к тому, кто занимает позицию справа — “Л”»4.
Во-вторых, в традиционных обществах, где, напротив, позитивное право играет весьма скромную роль среди социальных регуляторов поведения, правовые институты так же активно используются сегодня в общественной жизни. Формально оставаясь в тени, фактически позитивное право позволяет обойти императивные нормы религии. Например, компаративист прекрасно понимает значение «двойной продажи» в мусульманском праве, где такие «правовые уловки» (хиялы) не редкость. Поскольку Коран не допускает ссуду под проценты, запрещая ростовщичество, заемщик «продает» вещь кредитору и тот «перепродает» ее заемщику по цене, завышенной на заранее оговоренный ссудный процент и выплачиваемой только по истечении срока ссуды5. Здесь мы наблюдаем тенденцию, обратную той, которая имела место в период формирования западной традиции права. Последняя, как полагает Г. Дж. Берман, органически вырастает из канонического права6, тогда как мусульманская традиция привлекает позитивное право для корректировки чрезмерно жестких требований религии. Поэтому предупреждение Р. Леже, адресованное европейским юристам, о том, что «нам следует ограничивать техническое значение права и прилагать максимум усилий к урегулированию социальных отношений другими способами»7, в рамках восточной традиции права утрачивает свой смысл.
Очевидно, что указанные тенденции свидетельствуют о необходимости проведения правовых исследований, основанных на понимании права как элемента культуры. Однако такие исследования предполагают структурный анализ правовой реальности как знаковой системы, поскольку в этом случае открываются возможности для выявления взаимосвязей права с другими элементами культуры, также понимаемыми как знаковые системы. Кроме того, семиотический анализ онтологической структуры права позволяет выявить его универсальные основания, остающиеся неизменными в любом культурном контексте. «Различия между правом разных стран значительно уменьшаются, если исходить не из содержания их конкретных норм, а из более постоянных элементов, используемых для создания, толкования, оценки норм»,8 — пишет Р. Давид. Речь идет не о тотализации юридического метаязыка, a priori навязывающего себя социальной реальности с каких-либо конъюнктурных позиций (например, с целью доказательства превосходства одного способа бытия над другим). Напротив, основные задачи правоведения видятся нам в осмыслении разнообразия способов сосуществования людей в обществе и правового общения внутри современных юридических культур и между их представителями.
Для достижения этой цели правовед удерживает в поле своего зрения три уровня правовой реальности, а именно: общее социальное пространство, юридическое пространство и область правосознания. Анализируя их, он осмысливает ментальность субъектов права, действующих в оригинальных культурных контекстах, специфику их суждений о праве, концептуальные основы юридического регулирования общественных отношений в отдельных социумах. Свои исследования он проводит в сфере коммуникации, работая с социальными структурами, с культурой как нормативным образованием и знаковой системой, и с суждениями о справедливости. Применительно к сравнительному правоведению в 60-е годы XX в. Р. Давид писал, что «путем широкого изучения структуры других обществ и других правовых систем компаративисты должны создать необходимые условия для плодотворного диалога»9. Исследование структуры правовой реальности как социального и культурного образования обусловливает диалог юридических культур, обогащающий правовую идеологию и юридическую технику. Яркий пример понимания чужой культуры приводит Н. Рулан: «Американцы, чтобы избежать обвинений в сексуальных домогательствах, начинают прибегать к письменным соглашениям, уточняющим границы любовной связи, которые нельзя переступать: это так называемые love contracts»10. Данная правовая новелла обескураживала французов, пока в их праве не утвердился институт страхования на случай развода для оплаты услуг адвоката.
Первоначально правоведы набрасывают «атлас», отражающий варианты формализации и практического применения социальных норм, характерных для конкретных культур. На данном этапе все они действуют по принципу, описанному Р. Бартом в «Империи знаков». Японцы, как утверждает Р. Барт, отказывают телу в признании его центрального положения в мире в качестве означаемого знаковой деятельности и выражают его отношения с реальными вещами непреложным жестом указания на них пальцем («Такое!»). Но и правоведы, обращаясь к исследованию правовой системы, указывают на нее: это — англосаксонская семья, а вот это — романо-германская и т.п.11 Так формируется метаязык правоведения, разумеется, не свободный от вносимых в него исследователем посторонних смыслов. В конечном счете различные интерпретации позитивного права, как и истории, во многом напоминают обращение к мифологии в традиционных обществах. Мифы служат там оправданием различными социальными группами своих привилегий, объяснением ими причин упадка и возвышения, основанием для требования льгот. Все или почти все зависит от занимаемой субъектом высказывания позиции. Правовед также свободен осветить один правовой институт и затушевать другой, изучить одну юридическую модель и пройти мимо иных систем, преподнести их соответствующим образом. Однако практикуемый правоведом метаязык, при всех его погрешностях, должен отражать пласт правовой реальности как таковой и форму, которую она принимает в данном обществе. Переходить от сбора эмпирического материала к его осмыслению оправданно, имея адекватное представление об онтологической структуре права и особенностях того культурного контекста, где она сформировалась. «Большинство французов ничего не поняло в югославском конфликте, по их представлениям, эти “этнические” проблемы относятся лишь к жизни народов отдаленных стран»12, — с сожалением замечает Н. Рул ан.
На теоретическом уровне анализом правовой реальности занимаются представители противоположных школ и направлений юридической науки. Среди множества проявлений правовой сущности правоведы предполагают обнаружить единую онтологическую структуру права. Какими бы ни были предмет и формы права, изменяющиеся во времени и пространстве, оно «предназначено предупреждать и разрешать возникающие в обществе конфликты путем обращения к одному общему источнику»13, — уверены они. Отталкиваясь от предположения о монистическом воззрении на право, обещающем установление единства его структуры, Г. Кельзен выстраивает концепцию нормативизма, применимую к позитивному праву как «чистому» феномену. Он подчеркивает то, что систематическое единство представляет собой «свободное деяние юридического познания»14. С ним полемизируют юснатуралисты, пытающиеся обосновать существование «естественного» права и вскрыть практическое воплощение в нормах закона универсального принципа справедливости. Представители либертарной концепции отмечают, что «самая краткая дефиниция понятия позитивного права (правового закона) должна включать в себя, как минимум, два определения, первое из которых содержало бы одну из характеристик права в его различении с законом, а второе — характеристику права в его совпадении с законом»15.
Эти школы придерживаются различных методологических принципов, но они сформировались в рамках одной традиции права, обусловливающей возможность реальной дискуссии на общем поле метаязыка юриспруденции. Сложнее выстроить диалог между представителями разных культурных типов, идеализирующих право или сомневающихся в его ценности. Как оговаривается Н. Рулан, «размышления о месте права возникают очень быстро, когда мы оставляем родные берега»16. Впрочем, ошибочно считать эту задачу невыполнимой, поскольку диалог культур состоится при их восприятии как семиотических систем. «Культуру можно рассматривать как знаковую систему, и в зависимости от отношения к знаку можно выделить два типа культуры, различие между которыми определяется тем, как понимается отношение между знаком и его значением: как единственно возможное или как условное и произвольное»17, — отмечает И.Д. Невважай. На этом основании он выделяет «правовую культуру выражения», в которой сознание законодателя направлено на репрезентацию в правовой норме уже заданного содержания, и «правовую культуру правил», нацеленную на упорядочение отношений в социуме через посредство знаков, формирующих свой референт.
Семиотический анализ онтологической структуры права интегрирует в предметную область правоведения правовые системы, не воспринявшие ценностей, категорий и понятий западной традиции права и развивающиеся на самобытной почве. «В глазах китайцев право не просто далеко от того, чтобы быть фактором порядка и символом справедливости; оно — орудие произвола, фактор, нарушающий нормальный порядок вещей»18, — полагает Р. Давид. Кажется, что это веский аргумент для передачи китайского права в ведение истории культуры. Однако отрицание ценности права и замена его иными регуляторами поведения индивидов не устраняет юридического поля, остающегося в восточных цивилизациях, как и в западных, пространством борьбы субъектов за признание их правового статуса.
Размышления Р. Барта по поводу японской культуры свидетельствуют о том, что, пусть и более прямолинейно, чем на Западе, на Востоке субъекты права тоже опрашиваются об их расположении в правовой реальности и обозначаются недвусмысленным указанием на них. Добавим здесь, что жест-указание глубоко укоренен в разных правовых культурах. Более тысячи лет в Испании функционирует Водный трибунал Валенсийской Уэрты (долина реки Турия), процедура рассмотрения дел в котором (споры по поводу пользования каналами) совмещает римское и арабское право. Как отмечается в литературе, «арабские корни видны в манере Председателя предоставлять слово движением ноги, а не руки»19. Впрочем, можно и поспорить о значении юридического поля в восточных культурах, заметив, что, к примеру, в Китае легальное пространство столкновения позиций носит субсидиарный характер, так как там в суд обращаются, исчерпав все доступные средства примирения. Любопытно, что «сами же суды склоняют стороны к мировому соглашению и разработали оригинальную технику применения права, а точнее, уклонения от его применения»20. Ответ на это замечание содержится в нем самом, поскольку, чтобы непосредственно не применять нормы позитивного права, китайские судьи приложили усилия к выработке специальной техники, опять-таки действуя в «ненавистном» им юридическом поле. Кстати, «ненавистном» в прямом смысле слова, учитывая то, что идея «правления через право», в основе которой лежат взгляды ле- гистов, «была выдвинута Дэн Сяопином после смерти Мао (последний испытывал особое отвращение к праву, заявляя, что не помнит Конституцию, которую сам и написал)»21. Между тем попытки политической элиты культивировать в обществе отношение к праву как к безусловной ценности ни к чему не приводили, оставляя открытым вопрос о подлинных установках самой элиты. «Коммунистический режим в Китае сперва отказался от кодексов по западной модели, подготовленных после падения императорского строя, — пишет Р. Давид, — а позднее после недолгих колебаний — от советского пути, и избрал свой собственный, на котором праву отведено скромное место; был принят ряд новых законов, но мало что изменилось в стиле их применения»22.
Тем не менее объективный взгляд способен рассмотреть в позиции политических лидеров Китая не примитивный уровень правосознания и не правовой нигилизм, а одну из разновидностей акта признания правовых ценностей. Негативная оценка — тоже оценка, которая сама по себе интересна исследователю. «В суждениях о праве всегда и везде заметна некоторая двойственность, — отмечает Н.М. Коркунов, — с одной стороны, отдельные действия лиц обсуждаются с точки зрения согласия или несогласия их с действующим правом, с другой — и само действующее право подвергается обсуждению с точки зрения более общих принципов»23. Осмысливая акты отрицания права, правовед обнаруживает субъекта, такие акты реализующего и оценивающего правовую реальность.
Взгляд на китайскую традицию правопонимания резко меняется, когда правоведы предпринимают попытку определить, что же собственно является объектом неприятия — содержание норм права, которое еще в эпоху Трех династий (2205— 256 гг. до н.э.) выкристаллизовалось как карательное, или право в качестве способа бытия сущего, признаваемого как правовое, т.е. правильное, справедливо правящее и направляющее субъекта, вопрошающего о дальнейшей судьбе, в его движении в пространстве проблемной ситуации. По замечанию Н. Рулана, «в Китае право в основном остается средством для одного клана осуществлять свою власть, воплощаемую в праве карать других. Однако идея права в том виде, в каком мы ее себе представляем, не была совершенно чужда историческому опыту Китая»24. Следовательно, прежде чем критиковать своеобразный подход китайцев к праву, необходимо осмыслить саму идею права как его онтологическую структуру, вписанную в конкретный культурный контекст, в данном случае — китайский.
Структура права едина, целостна и внутренне непротиворечива. Другое дело, если занимаемая наблюдателем позиция допускает его классификацию на «подлинное» и «неполноценное», «естественное» и позитивное, обнажая всю глубину и трагизм усвоенного правоведом социального опыта. Поэтому, отказываясь от участия в полемике между позитивистами и сторонниками юснатурализма, Р. Давид обоснованно выделяет мусульманское и индусское право среди основных современных правовых систем, о которых уместно вести речь и с учетом положительних данных, и в перспективе правового идеала25, а также рассматривает правовые системы Китая и Японии. Такая позиция акцентирует внимание исследователя не на споре позитивизма со школой «естественного» права, а на отношении между фактом и нормой в онтологической структуре права. Пренебрегая фактическими основаниями правовой реальности в пользу нормативного аспекта, компаративист рискует свести исследование к сопоставлению англосаксонской и романогерманской правовых семей, анализируя другие семьи «по остаточному принципу». Он «застревает» на вопросе о том, почему в Англии так прохладно относятся к почитаемой на континенте концепции «естественного» права, а переходя к правовым системам Китая или Японии, теряется в материале не столько из-за его обилия, сколько по причине отсутствия ориентиров для его осмысления. Оперируя метаязыком, правовед, подобно субъекту права, продвигается в пространстве ситуации, и от успеха его освоения в лабиринте чужих для него смыслов зависит, передаст ли он их на своем языке адекватно оригиналу или создаст новый юридический миф. Как утверждает Н.Н. Алексеев, «выход из условности положительно-правовых установлений должен быть найден не в учении о “естественных” элементах права, но в объективной структуре, или эйдетической сущности, правового логоса»26.
Отправной точкой в процессе постижения объективной структуры права выступает фактическая ситуация, требующая от компетентной инстанции разрешения и предполагающая его только как юридическое, т.е. правовая ситуация. «Не существует нормы, которая была бы применима к хаосу, — замечает К. Шмитт. — Всякое право — это “ситуативное право”»27. Ситуация, в которой формируется свободный субъект права через поведенческие акты, соотносимые с решением компетентной инстанции и инструментарием права как социального образования, является онтологическим основани ем права. «Необходимо вычленить и сосредоточить внимание на исходном и вместе с тем предельно простом пункте, показывающем, с каких обстоятельств в мире конкретных явлений и процессов юридическое регулирование начинается. Это — “ситуации, требующие для своего решения права” ...»28, — пишет С.С. Алексеев. Такие ситуации обозначают конкретный способ бытия сущего как правового и находятся в основании любой юридической системы, поскольку изначально образуют саму структуру права.
Очевидно, что непосредственное соприкосновение с правом происходит в ситуации или по поводу ситуации (причем не обязательно конфликтной), нуждающейся в разрешении. Оно находит формальное выражение в акте, исходящем от легитимной инстанции и направленном на признание либо абстрактной модели некоей ситуации и статуса ее потенциальных участников (нормативно-правовой акт), либо конкретной ситуации и статуса ее реальных участников (акт индивидуального применения права). В обоих случаях структура права формируется с решения, принятого на основе определения того, кто и на что имеет право в данной ситуации. Необходимость в решении возникает тогда, когда нарушается правопорядок, распавшийся на право и порядок. Для возвращения к единству компетентная инстанция, опрашивая участников ситуации, первоначально восстанавливает порядок, так как «норма нуждается в гомогенной среде»29. Норма права не применима к социальному хаосу, который преодолевается принятием решения, упорядочивающего общественные отношения легитимным путем.
С точки зрения юридической техники в западных обществах модель расспрашивания о перспективах развития правовой ситуации и ее итоге разработана детальнее, чем в других обществах. Субъекты обращаются в вышестоящую инстанцию, которая «принимает окончательное решение, а до такого решения рассмотрение конкретного дела откладывается»30. Сама процедура судебного контроля четко указывает на то, что правопорядок основывается на решении, но не на норме. Заметим, что «верховный суд не отменяет закон, в его решениях нет такого постановления, да и по смыслу конституции любой страны он и не вправе это делать»31. Однако от верховного суда игроки на правовом поле ожидают решения, одновременно абстрактного — влияющего на эволюцию правовой системы — и предельно конкретного, имеющего непосредственное значение для данной ситуации и ее участников. В результате, как полагает В.Е. Чиркин, «юристам тех стран, где существует такая система, нужно постоянно следить за деятельностью судов в сфере конституционного контроля (особенно верховных судов страны, а в федерациях — и верховных судов субъектов федерации)»32. Суд выступает в цивилизованном обществе формальным воплощением одного из основных субъектов правовой ситуации, без участия которого ситуация не состоится как правовая — инстанции, беспристрастно оценивающей позиции сторон и принимающей решение. «Отношение двух лиц еще не создает правовой ситуации, но если в него вмешивается третий, то мы имеем дело с простейшим случаем социального отношения; если вмешивающийся третий является “беспристрастным и незаинтересованным”, если его вмешательство имеет принудительный характер, то это — простейшая правовая ситуация»33. Своим решением судья, кто бы ни выполнял его функции, впервые создает гомогенную среду, в которой существует право.
Возможность использования в юриспруденции категории «разрешение правовой ситуации» обосновал, рассуждая о перспективах преподавания сравнительного правоведения, Р. Паунд. Он утверждает: «Преподаватель будет постоянно предлагать разные способы решения рассматриваемых им проблем национального права, аналогично тому, как путем дискуссии вырабатываются способы решений в странах англо-американской системы права»34. Как известно, в этой правовой семье судебный прецедент занимает центральное место среди источников права. Если на континенте судья со временем становится заложником возвышения законодательной власти, то в англо-американской юридической культуре судебный прецедент остается знаком онтологической структуры права. «Общее, прецедентное право (common law) — это не некая просто совокупность судебных решений, в которой содержится ratio decidendi, а структурированная по содержанию... целостность правовых начал нормативного характера, которая имеет непосредственное регулятивное значение»35, — замечает С.С. Алексеев.
Несмотря на то определяющее для развития правовой ситуации (и права в целом) значение, которым обладает разрешающая ситуацию инстанция, ее основным участником является субъект права, выступающий в роли субъекта спрашивающего («За что?» или «Как?»), носителя акта признания («Наш суд — самый гуманный суд в мире!») и осваивающего в правовой ситуации свой опыт свободы, который за него никто другой не освоит. Любой акт, в том числе и акт признания, является решением, направленным на изменение и прояснение порядка бытия и на выявление в нем истинного положения дел. Сообразно с этим обратной стороной формирования правовой ситуации как способа бытия сущего станет вопрос субъекта о его дальнейшей судьбе. Ему необходимо знать, что ожидает его в будущем для свободной ориентации в пространстве правовой ситуации, которая оказалась его ситуацией. «Когда возникает потребность в большей личной энергии и в большей личной инициативе, тогда определенность права становится непременным условием этих последних, становится вопросом самой личности»36, — замечает И. А. Покровский. Проходя через правовую ситуацию, ее участник получает опыт свободы и определяет здесь свою позицию по отношению к праву. «Свобода едина, но проявляется она по-разному, в зависимости от обстоятельств. Философам, ставшим на ее защиту, можно задать один предварительный вопрос: какова была та особая ситуация, которая дала вам опыт свободы?»37, — спрашивает Ж.П. Сартр. Разумеется, чужой опыт свободы (ее отсутствия) нельзя передать никакими средствами. В то же время исследователи могут анализировать вариации свободного существования в различных обществах, сопоставляя способы правового существования сущего, что позволяет им подойти к осмыслению онтологии свободы, обеспеченной юридическими, социальными по своей природе, механизмами.
Антропологическое требование признания и окончательного решения ситуации определяет формирование права как институциональной системы. Характеризуя эволюцию общества, Н. Рулан констатирует, что «стремление к достижению согласия уступает место требованию утвердить право (ѵеге dicere: вынести вердикт), т.е. определить, кто прав или виноват, обращаясь к общим, как предполагается, и безличностным правилам, записанным в законодательных текстах (закон берет верх над обычаем) или решениях органов правосудия»38. Онтологическая структура права как правильного расположения и бытия сущего усложняется за счет формализации механизма регулирования, вырастая из конкретных правовых ситуаций, находящихся в пространстве культуры, до уровня социальной практики. Она обеспечивает тот способ существования социума в целом и всех его отдельных элементов, который получает легальное признание в качестве правового способа. Как опрашивание субъекта, так и его собственный вопрос о его судьбе, теперь оказываются механизмами вхождения в ситуацию и расположения в ней, правилами, нормами. Таким образом, структура права, формировавшаяся до этого момента на основании фактов и решений, недвусмысленно заявляет о своем нормативном характере. «Организация судебной власти приобретает вертикальное измерение с возможностью обжалования судебных решений в вышестоящих судебных или административных инстанциях, в то время как в обществах негосударственного типа истец может нередко выбирать между несколькими институтами по урегулированию конфликтов, но не может обжаловать их решения»39, — пишет Н. Рул ан. Полностью сформированная онтологическая структура права включает фактические основания («правовые ситуации» — уровень восстановления нарушенного порядка через принятие легитимного решения) и их нормативное выражение и закрепление в действующих источниках (уровень наделения легитимного решения новым качеством легального, нормативного, юридического явления). Вопрос в том, как соотносятся эти уровни правовой реальности — общего социального пространства и юридического поля — между собой и с уровнем правосознания, где происходит признание возникшей ситуации субъектом права как его ситуации и легитимной инстанцией — как правовой ситуации.
По нашему мнению, принципиальное отличие правовых систем друг от друга заключается в особых способах бытия сущего как правового. «Право — произвольная форма существования, вне зависимости от того, было ли оно признано на уровне чувств, импульсивно (неписаное право, обычное право, equity) или абстрагировано посредством обдумывания, углублено и приведено в систему (закон)»40, — полагает О. Шпенглер. Онтологическая структура права неизменна, но варьируются конкретные способы его существования, давая основание компаративисту рассматривать правовую ситуацию с разных позиций. В свою очередь, способы существования права обусловлены культурными контекстами и моделями правового общения и осмысления права (его языки метаязык). Особенно наглядно это видно, когда с западными правовыми системами сравниваются те, в которых юридические феномены связаны с элементами духовной или политической культуры. «И поэтому их внешнее бытие или, напротив, небытие, — рассуждает С.С. Алексеев, — определяется одновременно, в неотрывном единстве, в “одном пакете” с бытием или небытием всего, так сказать, “комплекса” — юридических и неюридических компонентов»41.
Комплексный характер бытия права объясняется как культурными, так и социальными предпосылками. Оставаясь частью культурного пространства, право активно взаимодействует с его составляющими, выполняя функцию обеспечения свободы человека, сосуществующего с другими людьми. В этом пункте активизируются социальные предпосылки комплексного бытия права. «Можно сказать, что бытие не является общим в смысле какой-то общей собственности, но что оно совместно, — уверяет Ж.Л. Нанси. — Бытие совместно. Что может быть проще такой констатации?»42 В правовой ситуации органично связаны «существование субъекта в» и «существование субъекта с», что предопределяет ее для него как co-бытие, разделяемое им с другими субъектами. Поэтому современная компаративистика обращается от анализа структуры правовой ситуации к осмыслению известных способов свободного основанного на праве сосуществования людей. Так, по замечанию Н. Рулана, «в одном из исследований вьетнамской культуры приводятся схемы, хорошо показывающие различия в концепциях личности на Востоке и Западе», в ее социальном положении, которые используются правоведами43.
Обновление методического аппарата правоведения отражает процессы аккультурации права, выхода за пределы индивидуального правового опыта, безусловно, первостепенного, однако не единственно возможного. Сравнение способов бытия права не гарантирует их абсолютно адекватного понимания, тем более, их приятия и рецепции, но попытка понять и осмыслить чужой опыт свободы освобождает того, кто отваживается ее предпринять. В этом плане интересен пример, который приводит в «Структурной антропологии» К. Леви-Строс. Он рассказывает о том, как сомневавшийся в могуществе колдунов канадский туземец, пройдя обучение у шаманов и утвердившись в своих подозрениях, тем не менее, творил «чудеса», одновременно отдавая себе отчет в их характере. Используя один незамысловатый прием, он добивался лучших результатов, чем другие колдуны, начиная сомневаться уже не в самом чуде, а в собственном статусе. Его методы были такими же, как и у них, хотя и результативнее, и нагляднее. «Таким образом, наш герой сталкивается с проблемой, — заключает К. Леви-Строс, — которая, может быть, несколько аналогична проблеме, возникающей по мере развития современной науки. Имеются две системы. Известно, что обе неадекватны. Но логика и эксперимент показывают, что их различие значимо. В какой системе отсчета их можно сравнивать? С точки зрения соотношения с фактами, где они неразличимы, или в своих собственных системах, где они имеют, теоретически и практически, различную ценность?»44
Сравнение, по нашему мнению, имеет смысл только во втором случае, когда факт анализируется в единстве с нормой, с позицией становящегося в ситуации субъекта, а не в отрыве от них. Это необходимое условие для понимания представителя иной правовой культуры и выстраивания с ним на почве права продуктивного диалога. Правовед не может позволить себе такую роскошь, как утрата означаемого во имя знака, но в равной мере он не должен пренебрегать знаками, отчетливо представляя, насколько они на самом деле соответствуют обозначаемому ими. Структура правового бытия начинается с правовых ситуаций, где значима любая мелочь, поскольку для субъекта права она — ориентир в процессе его расположения и освоения в правовой реальности. «Как говорят англичане, правосудие должно не просто вершиться, но нужно, чтобы все видели, что оно вершится. Это вовсе не означает, что если правосудия не видно, то оно не будет признано; это означает, что если его не видно, то это не правосудие»45, — замечает по поводу юридических ритуалов ГДж. Берман.





