У каждого своя Сибирь. Две истории о депортации калмыков (интервью с С. М. Ивановым и С. Э. Нарановой)
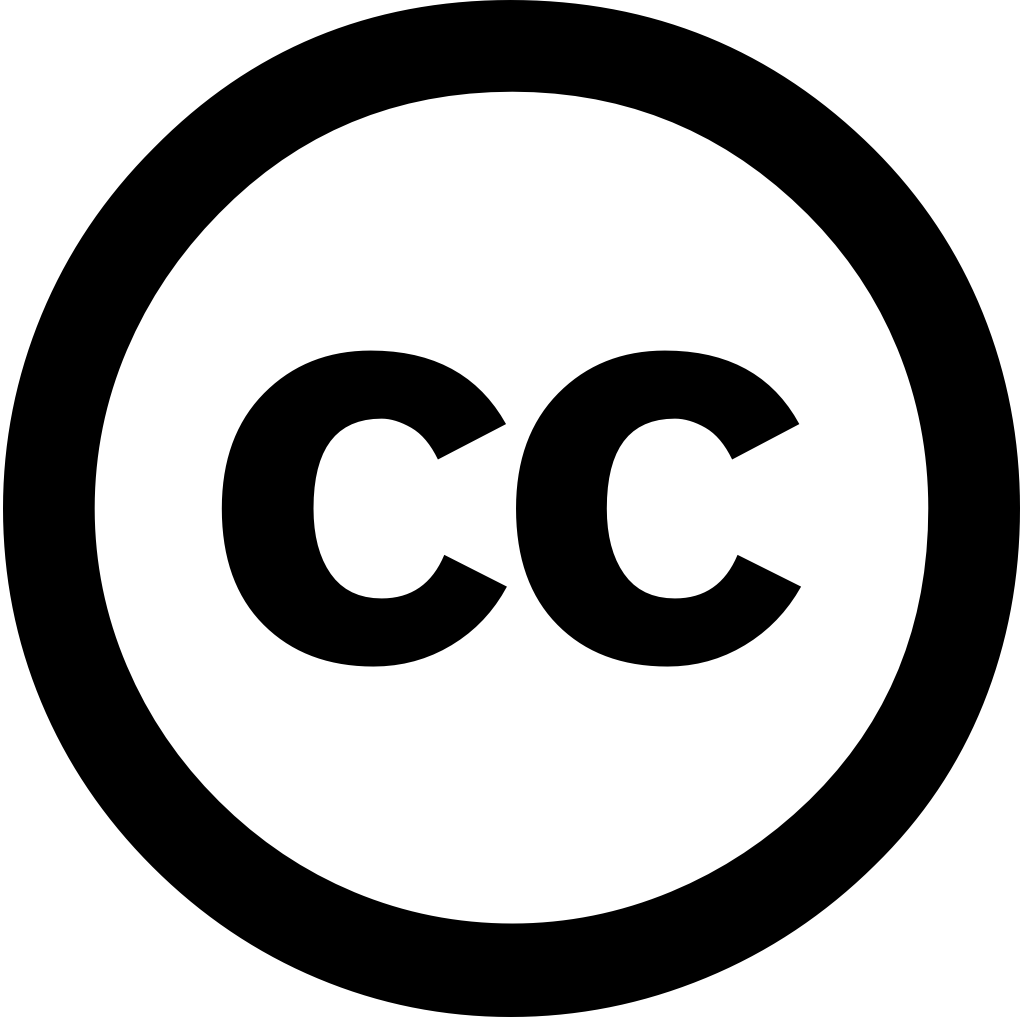

Published: July 1, 2019
Latest article update: March 30, 2023
Abstract
Эта публикация посвящена важному в истории Калмыкии периоду, но еще недостаточно исследованному антропологами и социологами ― депортации народа в Сибирь (1943–1956 гг.), и памяти об этом. Она состоит из введения, двух интервью и комментариев к ним. Цели и задачи публикации ― показать повседневные практики выживания калмыков в Сибири. Материалы представлены в виде текстов спонтанных интервью, полученных автором в 2004 г. К ним применялся текстологический анализ и метод деконструкции текста. Из транскрибированных текстов интервью мы видим стратегии выживания и адаптации юного поколения спецпереселенцев в местах вынужденного проживания: видим, как взрослеет С. Иванов, десятилетним мальчиком высланный вместе с семьей из Улан-хольского улуса Калмыцкой АССР в п. Искитим Новосибирской области и рано ставший главой семьи, как семнадцатилетняя Сима Польтеева, высланная из Башанты с семьей в Красноярский край, принимает важные в жизни решения. В мужском и женском нарративах показаны разные формы сопротивления репрессивному режиму и разные, гендерно окрашенные стратегии адаптации калмыков в принимающем обществе. В текстах обоих интервью упоминаются сюжеты, связанные с исключенностью на этнической основе и тем, как переживали молодые люди стигму запрещенной властью этничности. Перед нами тексты, в которых из ХХI в. конструируется прошлое 60-летней давности и которые являются конкретными примерами семейной, частной памяти о годах депортации ― без политических клише и конъюнктурных оценок. Это память о депортации в формате «От первого лица», и тем интересны и важны нам подробности повседневной жизни семей Ивановых и Нарановых. Тексты интервью будут интересны всем исследователям депортации калмыков и памяти об этом периоде. Дискурсивные стратегии именно этих двух нарративов о депортации калмыков показывают, что травма выселения у данных респондентов во многом переработана.
Keywords
Дискурс, калмыки, политики памяти, депортация, нарратив, репрессии, гендер, устная история
Введение
Устная история заявила о себе как научное направление в конце XX в., став популярной методологией в социологии, истории, социальной антропологии [Томсон 2003; Мещеркина2004], особенно применительно к тем периодам и аспектам, которые долго не привлекали внимания советских историков, таких как история повседневности или эпоха сталинизма. Устные истории или близкие им биографические интервью — богатый источник изучения депор- тационной истории калмыков, противостоящий официальной подаче этого периода историками, у которых или не было в распоряжении достаточно источников [Некрич 1978], или задачами исследователей был в первую очередь ввод в научный оборот ранее недоступных документов [Бугай 1991; Убушаев 1991].
Персональная история, история личного противостояния обстоятельствам и окружающему социуму — от уличных драк и школьного буллинга до проблем с поступлением в вуз и на работу — сохраняется только в устном слове.
Ни один документ не может свидетельствовать о тактиках сопротивления и стратегиях адаптации простых репрессированных калмыков, и только устная история хранит важные для нас детали — в памяти стариков, в тех местах памяти, которые становятся нам доступными только на время беседы.
Приведенные ниже истории — часть авторского проекта «У каждого своя Сибирь» — сбора и анализа спонтанных рассказов о годах, проведенных в Сибири. Эта третья публикация парных интервью [Гучи- нова 2004; 2008].
В каждом интервью этого проекта «была поставлена задача записать рассказ о повседневной жизни калмыков в условиях депортации, о стратегиях физического и социального выживания, о том, как переживалась стигма исключенности из общества на этнической основе. Меня интересовал не только период депортации, но и предыдущие годы: детство, школьные годы, период оккупации, как и последующий период: возвращение на родину и встреча с ней, а также и то, как менялся во времени комплекс чувств и мнений о депортации, ее причинах и последствиях высланных людей» [Гучи- иова 2004: 402].
Эти два текста — мужской и женский — рассказы людей, которые родились в Калмыцкой автономной республике и в подростковом (или почти) возрасте были депортированы вместе со своими семьями. В них виден процесс взросления юноши и девушки, ускоренный недружественными социальными условиями.
Цель публикации — проследить два разных депортационных опыта — сельского парнишки и городской девушки, показать, как гендерные различия создавали разные трудности и преимущества в том, чтобы быть спецпереселенцем или спецпереселенкой.
Оба интервью были записаны в 2004 г. — в Элисте (С. М. Иванов) и в Москве (С. Э. Наранова). Это были четырехчасовые беседы, во время которых у автора интервью появилась возможность узнать с детства знакомых собеседников заново. Они не пользовались записями, рассказывали спонтанно, и тут надо отметить не только хорошую память, но и проницательность и дотошность, и глубину характеров моих собеседников.
С. М. Иванов
Мы жили в Улан-хольском улусе, в колхозе Ворошилова, это было село У ту и Номрын Хапчинского сельсовета. В 1943 г. я ходил в третий класс. Папка работал председателем колхоза им. Ворошилова. Мама домохозяйка была, с детьми дома сидела. Во время войны папа мобилизовывал людей на строительство дороги Кизляр-Астрахань, участок Улан-хол-Кизляр. Каждый человек должен был отработать два месяца, что ли. И никто не смотрел, есть ли дети в семье или нет. Гнали и все. Потому что калмыки брали обязательство дорогу в короткий срок построить. Папа приходит с работы и говорит матери: аака, мне каждый тычет в глаза, что ты свою жену не посылаешь, а нас гонишь. Поэтому мама поехала на два месяца работать на строительство этого полотна. Носилками землю таскала. После этого в [19]43-м нас этой дорогой и повезли в ссылку.
Утром в один из прекрасных декабрьских дней без десяти шесть кто-то стучит в окно. Папа был дома. Рядом старики жили, бабушка, мама отца. А дедушка уже умер. Мать открывает дверь, стоит на пороге офицер и наша бабушка. Она по-русски не понимала ничего, испугалась и спрашивает: в чем дело? Сказала: солдат что-то говорит, не пойму. Отец уже догадывался. Такие слухи доходили, но в какой день и что будет — было неизвестно. Нам сказали: тридцать минут даем, собирайте вещи. Отец без всяких разговоров — препятство-
вать ему как руководителю нельзя в таком деле — дает матери и жене распоряжение собираться. Берите теплые вещи первой необходимости, что хотите, сколько сможете унести. Нас, детей, поднимают. Солдаты были деликатны к отцу, знали, что он — руководитель хозяйства. Офицер сказал: «У вас дети, возьмите постельные принадлежности, мы вас с детьми довезем на машине». Всех собирали около колхозного клуба — полтора километра от нас. Калмыков из трех больших сел — У тын Номрун, Хаптрин Шоха, Куукдин хотон — собрали в клубе и около клуба. Я все время кручусь около отца. Вдруг их старший, в белом офицерском тулупе, капитан, отцу сказал: «Вам необходимо сдать печать, ценные документы, отчетность колхоза». А отец накануне с главным бухгалтером получил зарплату на весь колхоз. Я с отцом пошел. Отец не успел отдать деньги бухгалтеру, вытащил из темно-серого сейфа сумку с деньгами, отдал печать, протоколы собраний, все изъяли. В присутствии бухгалтера он отдал деньги, бухгалтер пересчитал и отдал офицеру взамен расписки. Отец тут здорово расстроился — я по лицу сразу понял, что он не успел людям раздать зарплату. Он потом в дороге спохватился: почему я около клуба всем не раздал зарплату? Настолько он был расстроен душевно, что соображение отключилось. Потом снова за нами приходит старший лейтенант, говорит отцу: «Вас снова в контору зовут». Я обратно за отцом зацепился. Сажают нас на машину, едут к нам домой и еще двое солдат. Заводят в сарай, там у нас овцы стоят, говорят, режьте любую скотину, у вас же дети. То ли они были довольны, что деньги получили. Из каких соображений? А отец резать скотину не умеет. Так солдат сам заколол на 70 кг барана, тушу пополам разрубили, мы потом почти полпути ели этого барана. Солдаты повели себя очень благородно. Женщины плакали. Рев стоял. Дотемна нас продержали в клубе. В декабре рано темнеет, хотя снега не было. А потом часам к шести подъехали машины.
Дɵрвн тɵгǝтǝ американ машин
дɵчǝдǝр суулад hарва,
Дɵчǝдǝр суудг болувичн
Дотркм зүркн булдлгла
'В американскую машину на четырех колесах
По сорок человек нас затолкали,
Хоть по сорок человек нас затолкали,
Сердце кипело внутри’.
Эту песню мы в Сибири пели. Посадили по сорок человек. Куда везут, не знаем. Привезли нас на станцию Улан-хол и всех выгрузили. Мы попали в последний вагон, с конца второй. Отец с посадкой тормозился, других сажал, а нас нет. Может, надеялся, что нам места не хватит, и мы останемся. В самом последнем вагоне ехали солдаты и грузили покойников — умерших в пути.
Тяжелобольные люди тоже с нами ехали. Их на носилках заносили, из улан-хольской райбольницы всех тоже забрали, с операционного стола вытаскивали. Правда, с больными калмыки-врачи в сопровождении были. Хотя я был маленький, я был очень ушлый. Смекалка у меня опережала рост.
В центре вагона буржуйка, вокруг нее двухъярусные нары. В вагоне все холоднее, на север едем. У кого есть одеяла — укрывались.
На полпути кончились дрова. Отец занимался поиском топлива, он никого не боялся, перед солдатами охраны не дрожал. Мать его держит, тянет назад, говорит: тебя застрелят солдаты. А отец говорит, я безоружный, я хочу, чтобы дети не замерзли. Угля не хватало, да и не горел он. Как вагон приостановится, шпалы над дорогою лежат, шпалы грузим, ножовкой пилим.
Почему-то нас везли через Алма-Ату. Я так думаю, через Астрахань и Гурьев везли. Ели мы вначале барана, а потом нам приносили еду, нам разрешали кипяток на больших станциях приносить. Я воду в ведре таскал. То, что у каждого было, тем и питались. На сковородке лепешки делали. Через сутки один раз горячее питание давали, я так помню.
Туалет — дырку прорубили в углу вагона; нам сказали: прорубите и закрывайте досками. И на ходу женщины ширмы делали из одеял, чтобы их не видно было. Мать ходила, эджайка закрывала, отец ходил — мать закрывала. Умывались, когда крупная станция. Как остановка, солдаты выгружаются из первого вагона, из середины эшелона и из последнего вагона. Окружают вагон с обеих сторон и показывают: туда сходить — воды взять, туда сходить — дрова взять. Больше никуда.
Приехали мы на станцию Искитим Новосибирской области на Барнаульской ветке. Темно. Вроде мы выезжали одним эшелоном все из Улан-хольского улуса, а приехали — много людей из Долбанского улуса. Оказывается, по дороге вагоны мешали, откатывали к другим эшелонам, чтобы из одного района много народу в одну область не попало. В нашем вагоне все ехали из нашего села, и мы все прибыли в один колхоз. А наши соседи из другого вагона попали тоже в Новосибирскую область, но в другие районы.
В 8 часов вечера нас встречали с собаками, с автоматами, сажают. Лошади уже запряжены. Дано было указание из каждого колхоза выделить на встречу столько-то транспорта. Мы своей семьей — бабушка, мама, папа, нас трое детей — мы на одной телеге ехали со своими вещами. Нас попало 12 семей, и 12 обозов пошло в деревню Нижний Коён, что в 23 км от районного центра.
Приехали мы около 11 часов ночи, нас разгрузили прямо в правлении колхоза. В этом селе было три колхоза: «Красное знамя», «Профинтерн», «Ударник». Мы попали в «Профинтерн», это центральная усадьба. А остальные — в другие колхозы.
Мы переночевали, утром нам горячую пищу принесли. Контора находилась внизу, в балке. А нас в гору подняли, там вселили в учительский дом, школа сгорела до нас, и дом пустовал. Нас две семьи туда вселили — мы и семья Мангад Тюрбя, одна семья жила в учительской, а другая — в кабинете директора. Вход был у каждой комнаты свой. Там мы три года прожили, и отец там умер. До кладбища там было 150 м.
На следующий день председатель колхоза Шмаков Петр Васильевич вызвал отца: Ваши документы, кем Вы работали? Тут и комендант нашелся. А я с отцом вместе как хвост, бабушка меня толкала: иди с отцом. Думала, если его заберут, то хоть будем знать, куда забрали. Отец говорит: я руководил хозяйством, способен заниматься любой работой. Ему дали пару лошадей, говорят: будешь возить горючие материалы с Искитимской нефтебазы для тракторов. Может, месяц отец там проработал, потом его снова вызывают. Мы Вас будем ставить завмагом. Хорошо, говорит отец. Магазин был такой запущенный, отец его за полгода поставил. И его сразу же избирают председателем правления колхоза, зам. председателя колхоза. Отец, наверно, года полтора проработал.
Вдруг отца вызывает председатель сельсовета. Говорит, Вас приглашает первый секретарь райкома партии — Густов Иван Степанович. Отец говорит матери: наверное, забирают меня. Раньше же, если замаранный человек, забирали сразу, без суда. День ждем — нет, два ждем — нет. Мать стала волноваться. Отец появляется в 12 часов ночи. Говорит: все в порядке, меня переводят председателем колхоза им. Ворошилова, за 10 км. С сентября [19]46 г., но я не дал согласия, обещал через сутки дать ответ. Хочу уговорить председателя Петра Васильевича Шмакова, чтобы он не отпускал меня, хотя бы через год... А тот, видать, с первым секретарем райкома неплохо жил. А тогда председателя сельсовета боялись люди, а уж секретаря райкома — тем более.
Отец ему тоже сказал: я возглавлял рыболовецкий колхоз, ничего в посевных не определяю, в культурах растениеводства не понимаю: что сеять — рожь, ячмень, пшеницу — не понимаю. Дайте мне подучиться. Тот сказал: год подождем. Год не прошел, а через полгода Густова в Новосибирск забрали, заворготделом обкома партии. Отец остался недовостребованным. Ну, он тихонько работает, дело свое ведет, с председателем колхоза они почти как братья стали, стали понимать друг друга лучше.
Приезжает вдруг наш родственник из Красноярского края Лиджи-Горяев Бадма с семьей. Тогда Обухов работал в министерстве рыбной промышленности СССР1. Он написал ему письмо: я работаю в шахте, ничего в этом деле не понимаю, переведите меня поближе к речке... И его перевели в Томск. А в Томске было рыбное хозяйство. И по дороге туда из Красноярского края он к нам заезжает. Это было весной, в мае, только березовые почки в лесах стали распускаться. Тогда они договорились с папкой, что он из Томска попросится в Аральск и, если получится, заберет отца.
Но этого вызова отец не дождался, 22 ноября его скривило, он 28 дней лежал парализованный. А в селе Китерня жил Мардг гиЪэдудгц гелцг — знахарь Мардг. Я выпросил у председателя колхоза лошадь — легковую машину того времени, взял Саав- ра Манджи, лошадь запрягли и поехали за 35 км. А до этого наша бабушка, мать отца, умерла. Отец нелегко это воспринял. Он всегда советовался с матерью, и мать давала дельные советы. Острая на язык, шустрая, в глаза прямо говорила и сына держала в кулаке.
Я из школы прихожу и сам видел и слышал. К отцу речь вернулась. Отец говорит ему: вот ты меня поднимешь ради моих детей, и я буду считать Вас как своего родного отца. Я перевезу Вас с женой, добьюсь хорошей квартиры. Будете жить под моим присмотром. Вдруг этот удгун (шаман) обращается к матери моей: давай, Джиргл, забьем барана, Ивану не хватает еды. А у отца губы трескаются от жара. А у нас полтушки было, председатель колхоза прислал. Мать говорит: «Может, сварим из этой полтушки? Мясо у нас есть». Эти слова не понравились ему, он удрал.
Отец заволновался. Через два дня его снова ударило. Я снова поехал к удгуну, уговаривал его до 11 часов ночи, потом привез других ребят — отца-то все знали по Улан-хольскому району — и до ночи уговаривал. Но он не слушает меня. И я забуянил, начал кидаться валенками. Его жена была нам родственница дальняя по дедушке, но он и ее не слушает. Я ночью сел на лошадь, поехал и заснул, а лошадь сама шла. Я замерз. Кто-то кричит утром, а это дядя Петя Шмаков, однофамилец председателя колхоза, лошадей поил в проруби и стал меня будить.
В 6 утра я захожу домой, отец закрыт тряпкой. Я спрашиваю: а почему папа тряпкой закрыт? Мать плачет. А у меня и в мыслях нет, что он умер. Мать говорит: подожди. Тогда Мара-ээджи — женщина, которая меня принимала, говорит мне: иди к соседям. У соседей я спрашиваю: «Тётя Кермен, что случилось?» — «А тебе разве не сказали? Отец твой умер».
Я тут кинулся к отцу, меня оттащили. Все собрались, председатель колхоза пришел, организовали похороны. Отец умер 22 ноября [19]47 года.
Мама осталась в положении. Через месяц и 13 дней мама родила. Мать позвала одну бабушку. Шура, сестра, держит тряпку, мать кряхтит, вдруг ребенок заплакал. Я подошел и маме говорю: мама, больше ты не рожай. Мара-ээджи говорит: от сырости, что ли?
Я собрался, пошел в школу. В тот день буран был сильный. Возвращаюсь из школы, вижу, кто-то возится у сарая с лопатой. Думал, Мара-ээджи. Подхожу, в фуфайке, в зеленом ситцевом платье, в валенках — раньше женщины брюки не надевали — мать копается в снегу. Я говорю: ты что, мама, делаешь? Я расплакался. Загнал ее домой. Брезентовый портфель бросил в дверях. Там корова же в сарае, овцы, а сарай занесло, корову не накормить, не подоить. Я дал скотине сена. Шура, сестра, пошла колхозных коров доить. Мара-ээджи воду греет, с ребенком возится, говорит матери: я же тебе говорила, не выходи, сын будет ругаться, придет и все сделает. Мать стала меня слушать, подчиняться. А соседи наши что-то не выходят. Я к ним пришел, говорю: «Вы что, Кермен, мать родила утром, а потом лопатой снег гребет. Что вы не помогаете?» — «А мы и не знали...».
Кое-как в слезах, в трудах мы перезимовали. Вдруг меня председатель колхоза вызывает и спрашивает: в чем нуждаетесь? Все лето мы болели. Шура заболела, опухла, я заболел — туберкулез шейной железы. Мать привезла гелцг эмгн — знахарку-калмычку. Она посмотрела белгэр хэлэИэд (погадала) и сказала: вам надо переезжать через речку любым путем, иначе вы все умрете. Место грешное. Здесь школа сгорела, уже три человека умерло из калмыков: Мангад Тюрбя, бабушка, отец. А речка Нижний Коён пересекала все село. И тогда я пошел к председателю колхоза и говорю: к нам знахарка приходила и сказала, что нам надо переезжать через речку. Дайте нам какую-нибудь квартиру. Он говорит: что делать? Давайте живите в половине конторы колхоза, а в другой половине пусть бухгалтерия. А я свой кабинет на склад переведу. Оказывается, он был влюблен в завскла- дом. И он уговаривает Лену Чуркину, зам. главбухгалтера, продать мне свою квартиру. И он покупает для меня за 800 руб. квартиру. По тем временам большие деньги колхоз выделил нам. Одна комната, русская печка, огород большой, сажаем картошку. Две кровати поставили, мать на печке спит. Зиму прозимовали. Я уже лошадей в колхозе пасу и частным образом коров пасу. Иду по селу утром рано и кричу: коровы! Сельчане меня жалеют, кто блинчиков даст, кто оладий, кто — молоко. Коров до конца села доведу, Дорджин Манджид ѳгчкэд (отдам), огородами бегу назад, полную сумку еды малышам оставляю — Борису, Вите и Вале, надо же их кормить. И обратно бегу коров пасти.
Следующей весной председателю колхоза говорю: дядя Петя, нам квартира маленькая, что нам делать? Он говорит: детсад пустой стоит, живите там. Я говорю: мы оттуда прибежали, назад подниматься туда, что ли? Не положено. Тогда он говорит: разбирай дом и строй новый. За 1 200 руб. колхозный детсад мне отдает. А новый сад построили ниже, потому что колхозники стали жаловаться, что этот детсад на краю стоит, за 3 км, и построили новый. Действительно, такой красивый дом стоит, окна забиты.
Я беру друга и банку с краской. Каждое бревно надо отмечать, чтобы потом собрать стену. Буква «А» — правая стена, «Б» — левая стена, начертили, отметили все стены и окна. На следующий день беру друзей-калмыков, пару лошадей, брички, и мы за один день разобрали дом и перевезли. Но в нижней части немного сгнила сосна. Я снова к дяде Пете: Вы бригаду мне дадите? Нет, говорит, после работы, если они хотят, пусть работают, сам договаривайся с ними, а в рабочее время я не разрешаю.
Бригадир их сказал, что мне надо нижнюю часть четыре ряда до подоконника заменить, старые бревна гнилые, не подойдут, мы ставить не будем, надо новые леса возить.
Я иду к леснику дяде Пете Захарову, спрашиваю, где хорошие сосны есть, мне нужно 16 сосен длиной 8 м. Дом наш 8 м длина и 8 — ширина. Он говорит, поднимайся туда, где живет Иван Халгаев, там хорошие сосны, руби, какие хочешь. Я беру Шуру, ей 16 лет, и едем. А Шура что? Девушка есть девушка. Ничего не может. А я очень хитрый был. Я с телеги задние колеса снимаю, лошадь выпрягаю, передние колеса упираю в другое растущее дерево и к лошади веревкой завязываю бревно. Лошадь затягивает бревна на телегу. А Шура караулит: как дерево на телеге, так она кричит. Я лошадь останавливаю. Ставлю задние колеса и отвожу. Так я по два дерева всё перевез. Шкуру снял, почистил и — готово. На землю бревно не положишь. Надо кирпич подложить под бревна. А в горах бутовые камни были. Я эти бутовые камни ломами выдалбливал, подставлял чурки и возил. Наша тетя мне помогала. Карьер рядом с их домом был. Все камни завез, по углам раскидал. В Сибири летом темнеет часов в 10. Рабочие в 6 работу свою заканчивают, ужинают и приходят ко мне. Утром они встают в 5 утра и до 8 утра три часа у меня работают. Смотрю: уже за 2 дня дом вывели.
Опять же мох надо собирать, между бревнами для уплотнения. Он в болоте растет. Я мешками собирал в болотных сапогах. Я всех женщин организовывал. Женщины быстро собрали мох, потом его просушить надо, а то мокрый положишь между бревнами, гнить будет дерево. Потом я поехал в Искитим, дранку купил. Сам эти дранки забил, чтобы штукатурка держалась. Нашел двух женщин-штукатурщиц. Они солому, глину с навозом смешивают и так красиво, чисто сделали, побелили, и мы переехали в этот дом.
Война кончилась. День был яркий, солнечный. В Сибири только снег отошел, посевная уже начиналась. Хотя на склонах снег еще лежал. И вот отметили день Победы и с песнями поехали работать. Некоторые пришли с фронта без рук и без ног. Радость была большая, все радовались — и немцы, и калмыки.
Сталин умер. Наш председатель сельсовета была, как Нонна Мордюкова. Она говорила: наш вождь, наш отец умер 5 марта. Всем говорила: покажите ваше горе. Кто плакал, кто глаза слюнявил, кто глаза рукавом вытирал. Мне, честно говоря, было до лампочки. Если глубоко, то хотя он нас выселял, но принес победу. В школе преподавали: генералиссимус! А про Жукова тогда вообще ничего не говорили.
Я был в Новосибирске, Еремин был генерал армии, возглавлял Сибирский военный округ. Парад принимал на белом жеребце. Его сын учился в электромеханическом институте. Эти студенты приехали к нам на практику в сопровождении преподавателей. Вдруг подъезжает черный «ЗИМ» в сопровождении «Победы». Выходят два полковника, спрашивают у бригадира Гриши Чуркина: Еремин у вас работает? — Да. — Вы должны дать ему нетрудную работу. — Тогда пусть с девчатами картошку чистит.
И мы дали ему лошадь. Девчата готовят еду для студентов отдельно, и он развозил еду. Я дал лошадь сыну генерала, а тот запрячь не может. Вечером мы поздно заканчивали — пока роса не упадет, до 11 ночи. Спим на улице. Сверху навес. Они называли гостиница «Сквозняк». Посередине ширма.
Через неделю приехали снова две машины, и сына Еремина я больше не видел. А остальные студенты еще полтора месяца работали.
Картошку мы продавали, чтобы купить одежду, мыло и все такое. Себе оставляли в обрез. Как только снег сойдет, мы резиновые сапоги наденем и идем выкапывать мерзлую картошку. Простоквашу с хлебом ели и считали: нормальная еда. Праздничная еда — когда мать мясо сварит, картошку пожарит, чай, молоко.
На колхозной пасеке мед качали. А отец, еще когда жив был, должен был наблюдать как член ревизионной комиссии. Кран открывают и выливают во фляги. Отец мне наливал полную чашку меда с ржаным хлебом. И я от жадности наедался так, что он пенился изо рта. Потом я настолько к этому меду привык, что сам на велосипеде наведывался на пасеку, и меня угощали. Нарежут с рамки мед и говорили: жуй, но воск не глотай. Теперь я мед не переедаю.
Мы жили нормально. Я двух свиней держал. Одну режем на зиму, под снег. Барана зарежу, в Новосибирск отвезу. Осенью картошку выкопаешь, пять-шесть мешков продашь. В колхозе денег же нет, то зерном дадут, если деньгами, то рублей 300.
У нас было заведено сдавать 110 л молока в год от каждой коровы, если жирность коровы 4,4, то засчитывалось 1 л к 1 л. Это сталинский налог. А если жирность меньше, то литров нужно сдать больше.
В нашей деревне был маслозавод. Потом я приспособился и с директором маслозавода наладил отношения. Для него я на лето зимой лед заготавливал. Его летом соломой закрывают, и все лето лед есть. Что я делал? Я переключился продукты возить в Искитим. Я беру масло с маслозавода, покупал там 25 кг и сдавал их как налог.
Тете Марии Грищенко дрова привезу, я же был хозяйственник. Мне уже 16 было. Ей, наверно, 25 лет было. Она была вожак комсомольской организации, целый день в магазине. Я приду, она мне говорит: Сергей, иди корову накорми, поросенка накорми. Она красивая была. Ну и потрогаю ее иногда. Она ласкала меня. То Марии дрова привезу, то сена для коровы. Она была девушка одинокая, незамужняя.
А потом я уже наглел. Антонине Черновой я помогал сено привезти, в колхозный огород пойду, свеклу повыдергиваю целую тележку, капусту повыдергиваю и домой везу. Она молчит, потому что дядя Петя Шмаков, видимо, просил за меня.
У председателя колхоза два мальчика было, меня дразнят. Я был двоечник, плохо учился. Меня дразнили: калмычек, узкоглазию Я их загоняю домой. Мать их работала воспитательницей в детском саду. Тогда внутренних замков не было, ключей не было, я их запру снаружи бревном. Они до вечера выйти не могут, писают, какают дома в ведре. Они стучат в стекло, а дом на высоком цоколе, и они кажутся маленькими. Потом двойные стекла, между ними вата. Не слышно снаружи. Тетя Дуся пожаловалась директору школы. Тот спрашивает, почему ты Володю и Мишу обижаешь, домой загоняешь? Вызывают их мать на очную ставку и спрашивают Мишку и Володю: «Почему вы его так называете — калмычек?» — «Ну, он и есть калмычек». — «По у него же имя есть». — «А почему они на глаза показывают? У меня глаза большие, не меньше их». Потом мать, видать, их отругала, они перестали дразниться.
У меня заболели уши, опухли. Повезли меня в Новосибирск на ул. Урицкого. В том году как раз преф. Мыштакой был, он умер. Его похоронили в таком роскошном костюме и выкопали из могилы из-за костюма.
Приезжает комендант и ищет меня: где он? А меня же из больницы повезли, нам не верят. Я коменданта наматерил, что мать побеспокоил, на нервы ей действовал. Комендант лошадь запрягает, меня в Искитим везет, потому что я уже и драться с ним полез. Начальник горотдела милиции был Белокуров. С ним мамин двоюродный брат работал. А меня закрыли. Потом мать сообщила дядьке, и он пришел, открывает дверь.
Белокуров спрашивает: ну что, будешь еще драться с комендантом? — А я и не дрался. Комендант спрашивает: а как ты оказался тут? — Да пошел ты! — я его матерком послал.
Это было в [19]46 г. В нашем колхозе откуда-то появился верблюд серого цвета. И он сдох. Его закопали. Пустили разговор, что он заразной болезнью заболел. Калмыки были голодные. Ночью выкопали этого верблюда, ободрали, сварили и съели. Обратно кости зарыли. Никто не умер. Может, местные догадались, но на улицу разговоры такие не выносили.
По первости разговаривали по-калмыцки. И дома у нас все говорили только по-калмыцки. Но потихоньку калмыцкий язык отошел в сторону. На свадьбах пели только калмыцкие песни: «Кеемэ», «Бог-шурйа», «Сарт гэрэтэ бушмуд». В течение 13 лет уже стали и русские песни петь. И до сих пор мы же с тобой по-русски говорим и дома также.
Отец мне сказал так: мы, калмыки, предателями не были. Какая-то часть, может, попала в плен. Но в основном кому-то нужно было противопоставить мелкий народ Советскому Союзу. Пол-Украины были предатели, а калмыков может, сотня, попала. Нашего председателя ВЦИКа вызвали в Москву и предложили найти семьи тех предателей, составить списки и выслать семьи. А он струсил, что сам попадет под выселение за плохую воспитательную работу, и сказал: выселять — так давайте всех. Я потом спрашивал у историков, документов таких нет. Но отец мне так говорил.
Густов потом мне рассказывал, что за месяц было известно, какие народы и в каком количестве куда приедут. Но не все хорошо подготовились, и не обеспечили надлежащий прием. Указание ЦК давал обеспечить теплым жильем до первых заработков. А в ЦК, оказывается, подносили информацию, что в колхозе зарплата есть и все такое. Но многие не выполнили это.
Второй раз я попал в капкан хороший. Это было в 1951 г. в Бурмистрове, в 60 км. Мы туда поехали, друг наш женился. Мы напились и драку устроили. Потому что девушка, что дружила с моим другом Борисом Хасыковым, выходит замуж не за него, а за богатого калмыка. Борис сказал: «Соня меня разлюбила!». Нас стали выгонять. А мы взяли стол и опрокинули его. И тут драка. Я граненым стаканом дядьку по лбу ударил. Стакан раскололся, а я порезался.
На следующий день иду по берегу Оби, в районе Вельска мы садимся на электричку, и меня ловит милиция, сажают в каталажку. Оттуда сообщили: мы же подрались и убежали. Утром выхожу в 6 часов на выезд в Искитиме — ехать в Нижний Коён, меня взяли. Посадили в КПЗ.
Снова мать сообщила дяде Басангу, тот говорит: будешь сидеть, пока оттуда не дадут прощение. Иначе тебе три года дадут за хулиганство. Привезли врача, я стучу, пинаю в волчок и не даю охране покоя. Меня вызвал начальник горотдела, отлупил меня ремнем и говорит: беги домой, чтоб через два часа дома был. Там по Канатной казахи жили, я взял у них лыжи и быстрее домой.
Работал я. Без войны мы 60 лет живем, и в совхозе умирают с голоду. Просто надо работать, хочешь жить — вертись.
Что калмыком быть стыдно, здорово ощущалось. Тогда слово «калмык» было связано с предательством. Сейчас ведь нам говорят: калмык, мы же не обижаемся. Тогда или же наше недопонимание было. И потом люди же в Сибири нас остерегались. Ведь перед нашим приездом слух пустили, что людоеды едут.
Потом я учился на прицепщика в МТС, работал у передового комбайнера штурвальным на «Сталинце», прицепном комбайне. Передовой комбайнер, он меня хвалил.
Выучился на тракториста. Трактор же без кабины. А пахота после уборки. Куропатки на борозду садятся, а эти птицы на подъем очень тяжелые. Я молотком как кину, попаду в куропатку, ее в марлю заворачиваю и в горловину трактора опускаю. По радиатору жир ползет. 3-4 куропатки за каждый круг. Марлю откроешь, а перья все уже вылезли. А там температура 80-90 градусов. Прежде кишки выпускаю, крылья и ноги отрезаю — так жарил куропаток.
В [19]53 г. у нас был слет молодых механизаторов. Тогда же целину поднимали. ЧТЗ, тракторы вот такие, тросы с руку толщиной, опутываем лес, сосну, которая растет среди поля. Расширение посевных площадей — и с корнями вытаскиваем, и за полем уже корчуем, и там на дрова. Здесь я показал себя хорошо и меня послали на слет передовиков на совещание обкома комсомола. Я был первый раз в оперном театре на спектакле «Садко». На сцене Садко стоит в красивом белом платье, в такой жилетке. Я потом рассказывал маме: а лодка прям плывет, там волны на сцене....
Нас угощали пивом. Молодежи много, 38 районов и по 10-15 передовиков с каждого района. Мы зайдем в туалет, пустую бутылку наполним, и на подоконник поставим. Пиво с мочой ведь не различишь. А потом стоим в стороне и смотрим, кто эту бутылку выпьет.
А когда на штурвального учились, кушать хотели, мы же молодые. Утащим уток, как будто из дома уток прислали. Тетя Маша, на, гусей пожарь, нам из дома мама прислали. Это село было далеко, откуда они догадаются.
В нашем селе было 15 семей. Немцы там были. Фридрих Сашка был, я у него прицепщиком был. Он был отличный механизатор. Немцы есть немцы. Они любой трактор, любую машину восстановят. Он меня всегда называл «топорный парень». Я это сам понимал, но словами не произносил. Я хоть и догадывался, что топорный, ему хохмы в ответ устраивал. Ночью на нарах спим, я его сапог унесу и спрячу, а он утром ищет. Ну, куда я ботинок дел? Ходит-ищет.
Нам, трактористам, специально выдавали брезентовые сапоги похожие на кирзовые, брезентовые брюки, фартук, ботинки. Когда он мне насолит, я драться не лезу. Вначале мы занимались мордобоем, я с ним дрался, то молотком брошу. А потом нашел такую тактику — прятать его вещи: то шапку спрячу, то сапог. Васька Пузанов — тот был грамотный. Мать — немка, отец — русский, он деликатно ко мне относился, я у него прицепщиком тоже работал.
У нас трактора работали сутками. Вечером и утром пересмена. Не было выходных. Самогонки не было, варили брагу. К тете Тоне Черновой привезем сено, накидаем, наскирдуем. У нее была дурная привычка. Чтобы мало ели, она в брагу табак насыпала. Я ее ловлю и спрашиваю: почему ты в брагу табак сыпешь? Я больше тебе помогать не буду. Хорошо, говорю, из бочки наливай в моем присутствии. Выпили порядочно. На следующий день я говорю: спали мы хорошо.
Шура наша вышла замуж в [19]56 г. Ей было 25 лет. Познакомилась она на свадьбе. Поехали несколько женщин. Стол накрыли. Мама расстроилась, далеко в район уезжает. А ей предлагал из нашего села Парна Гога, но Шуре он что-то не показался. Он скотник, она доярка — вместе работали.
В сундук деревянный положили ей два комплекта постельных принадлежностей, пиалы, что из дома мать взяла, чашки, суповые тарелки, алюминиевые ложки и вилки, немного одежды, — может, два платья. В чем в кино ходила, в том же и замуж выходила.
Навоз я сам чистил после работы. Мать только от коровы подальше оттолкнет. И я на санях выкатываю и в огород — на удобрения. Комбикорм насыпет, что я воровал у коней. Мать физически слабая была. Теленку нужно теплую воду, она ведро воды несет, сгибалась вся. Я это чувствовал. Утром встану, сам все сделаю. Иногда забуяню. Мать меня уже боялась, она видит: я вкалываю день и ночь. Был полноценный хозяин. У нас огород метров 100. Картошку полоть надо. Я шагами отмерю. Вот, мама, картошку надо окучить. Она, бедная, начинает, я у нее отбираю и Шуре задание давал, но у нее руки болят.
В [19]57 г. только стали на ноги вставать, только раны залечили... И уехали.
Калмыцких девушек не было. Я дружил с Олей. Я ее насильно домой приводил, дверь закрою и заставлял у нас спать. Дом я продал Попову. Потом деньги забрал у него, не хотел уезжать, у меня дружба с Олей. Мать мне говорит: зачем тебе орс куукн (русская девушка)? Поедем на родину. Я говорю: Оля, поехали. Ее мать не отпустила. Тут я рассердился и поехал.
Приехали на Казанский вокзал, пересели на ставропольский поезд. Сошли в Дивном 4 мая. Жара, пыль. Народу много, люди кишат. Я нашел на вокзале в углу место для матери и остальных. Обошел вокзал, осмотрелся. Услышал детские голоса, а это детский сад. Я подошел, зашел во двор. Женщина меня встретила неуважительным взглядом. Я спросил заведующую. Она вышла, я ей говорю: калмыки возвращаются на родину. Нет ли у вас одной комнаты свободной для матери и детей? — Нет, у нас детское учреждение. Отфутболила меня.
Выхожу с калитки, молодая чернявенькая женщина встречается.
— Как Вас зовут?
— Нина.
— Я вижу, ты благородная девушка, помоги. Мне нужна комната оставить семью.
— А вы женаты?
— Нет, это для мамы, братьев и сестер.
— Через дом землянка — хорошая, внутри чисто. Это устраивает вас?
— Да, спасибо.
На улице телеги стояли, я их загрузил вещами нашими и говорю: мама, два дня.
А у меня направление от Горяева С. С. в Приютное. Приехал туда, одни землянки. Мне не понравилось. О, боже, куда я попал? Какие-то калмыки уже там живут. Черные уже, обветренные.
— Это райцентр? — Да. Показываю направление. Мне говорят: жилья нет. А зачем направляли? Напишите на моем направлении: жилья нет, отказываем. Но он отказался писать такое. Я вернулся и говорю: мама, Приютное — это дыра. Я туда не хочу, едем назад. Я снова у Попова дом отберу. Мама говорит, езжай в Элисту. За ночь она меня уговорила. Я в первую попутную машину сел и приехал.
Приезжаю и сразу в Красный дом. Там на 4 этаже дядя работает в чесучовом пиджаке. Меня не узнает. Я говорю: нахцх ба- ам;а (дядя, мамин брат), Вы меня не узнаете?
— А кто ты?
— Иванова Манджи сын.
— Сергей, ты, что ли?
Автобаза. Зашел к Чернову. Орсмуд (русские) боялись — калмыки вернулись. Некоторые даже дрожали. Мы поехали. Приехали, маму встретили. О, говорит дядя, вы хорошо устроились. — Сергей нашел нам кухню, а то сидеть на вокзале два дня.
Мы с Борисом сели на ЗИЛ и поехали за легковой, в которой ехали мать и брат с сестрой. Вначале мы жили в клубе. Потом нам дали 4-комнатную квартиру в бараке.
В Сибири я попал в очень хорошее место. И люди были хорошие, и речка, рыба, ягоды и трава. Литовка на плечо, я за день полстога накашивал. Иногда возникают трудности, я вспоминаю Сибирь. Все годы я жил сытым, хотя и были трудные периоды. За счет животноводства никаких особенных проблем не было. Есть такая пословица: если заботишься о животных, результат будет. Наши старики так и говорили в войну: рыба и скотина нас от голода спасли.
Доставалось в те годы и женщинам — больше морально, и мужчинам — физически. Вши появлялись, когда человек худой, одежду не меняли, а стирали хозяйственным мылом. Порошка тогда не было. Недостиранная одежда, не доглаженная. Сейчас спичкой чирк — газ загорелся. Кран крутанул — вода. А там хворост на плечах таскали. Камышом чай варили, кизяком суп варили. Физически люди были загружены. Поэтому и долголетие было. Когда человек не работает, он дряхлеет.
С. Э. Наранова
Я родилась в селе Кердата (сейчас это и. Амур-Санаи Городовиковского района Республики Калмыкия) в семье зайсангов по отцу и по матери. Отец мой Польтеев Эренцен Бадминович жил в Кердате, это было родовое село Польтеевых. Наш род Польтеевых (прапрадед Польте Долганов, от его имени наша фамилия) в этом селе обосновался с 1826 г. Дед мой до революции занимался кожевенным промыслом, выделывал кожу. Он имел большой красный кирпичный дом. В его подвале были складские помещения. Сказать «кожевенный завод» будет сильно, но, вероятно, можно сказать, цех по выделыванию кожсырья, такое производство было. Дед поставлял свою продукцию кому-то в Сальск. Там в Сальске они деньги держали в Крестьянском банке. В Сальске, чтобы каждый раз не нанимать подворье для остановки со своим обозом, у них был свой собственный дом. Когда Советская власть установилась, отец подарил этот дом смотрителям, это была татарская семья Дулатовых.
В 1926 г., 31 июля, у Польтеевых всё национализировали: П-образный большой каменный дом, не сказать, что двухэтажный, но на высоком фундаменте, в одном крыле был магазин, в другом — жилая часть. В нем было паровое отопление, английские жалюзи. Потом в нашем доме был Башантинский детский дом. В 1942 г. детей эвакуировали. Когда мы приехали в Кердату пережить оккупацию, этот дом уже стоял без окон, без дверей, а после освобождения от оккупации его разобрали по кирпичику.
У Польтеевых национализировали 400 десятин земли (столько у всех зайсангов было, а вот у нойонов по 1 200 десятин), каменные постройки, весь скот — больше
тысячи голов овец, крупного рогатого скота — где-то за сотню. А птицу вообще не считали, водится — и все.
Было пастбище для скота и земля пахотная. У них была своя паровая машина, пшеницу сеяли. Рядом было русское село Янушевка, и мы сдавали часть земли им в аренду за 50 %, урожай делился пополам. Земля была очень благодатная. Столько было травы — только работай.
Папа мой закончил Ставропольскую гимназию и учительскую семинарию. Он вел всю финансовую сторону отцовского дела, вел все книги доходные, расходные. Когда советская власть пришла, он стал учителем. Павлов Дорджи Антонович, Добжинов Бадма Матвеевич, Берденов Алексей Балькадович были учениками моего отца. Когда я его реабилитировала, я ходила консультироваться к Д. А. Павлову, и он сказал: «Как же так, мы забыли реабилитировать своего учителя».
Осенью 1926 г., когда скот национализировали, землю, дом и подворье забрали, Польтеевы построили три деревянных дома. Их было три брата. Наш папа, Эренцен, был 1887 г. рождения, второй брат — Санджи, постарше — Эрдюш, он был бездельник, вел легкий образ жизни, увлекался карточной игрой. Дедушка ему особенно ничего не доверял. Братья рядом построили три дома. Дед жил с моим отцом. У папы еще была сестра Джугдан, ее муж Лиджи Шим- бенов, ики-бурульского рода, был полковником царской армии, участником Первой мировой войны, был награжден железным крестом. Для нее тоже дом держали, она наездами приезжала.
Впоследствии, когда не только зайсангов, но и зажиточных крестьян раскулачивали, нас выслали за пределы республики. Наша семья попала в Кайсацкий район Сталинградской области, в село Упрямовка.
Мама моя — тоже из богатого рода зайсангов Шарманджиевых, она была 1902 г. рождения. У нее было три брата: Шуурга, Мукабен и Пюрвя. Ее родители рано умерли, и она воспитывалась у своего старшего брата Эренджена Шарманджиева. Он ее и замуж выдавал. Когда мама родилась, родители сговорились, и она с детства знала, что выйдет замуж в род Польтеевых. Когда ей исполнилось 18 лет, ее выдали замуж.
В период Гражданской войны они называли большевиков «Ваньки» по аналогии с распространенным русским именем: туда идут большевики — скидывай сапоги, давай лошадь, назад идут — давай лошадь.
Польтеевы даже в одно время хотели эмигрировать, ехали на Новороссийск, но с полпути вернулись.
Держали скот. У них было на каждую семью 800 овец и 50 коров. Тоже была земля — 400 десятин. У них были свои хутора. Это сейчас Красногвардейский район Ставропольского края. А раньше он назывался Ясная Поляна, рядом — родина Горбачева. Эти места хорошо описаны А. Амур-Сана- ном в романе «Мудрешкин сын».
Мама говорила: как бы хорошо они ни жили, они все трудились. Летом они жили на хуторах, каменный дом был в Башанте и еще у Шарманджиевых дом был в Ставрополе, потому что их дети учились там в гимназии. Мать Льва Бадминовича Тапкина, Булгун Пюрвеевна, успела закончить эту гимназию, она знала французский и играла на пианино. Моя мама играла на скрипке и на домбре, у нее был хороший слух, она настраивала струнные инструменты — гитару, мандолину и балалайку.
Их воспитывали в трудолюбии. У них была обязанность — по пять коров подоить. Их было несколько сестер: Байкаде, Гила- на, Клава, мама моя Будже. Они на верховых лошадях уезжали гулять, под утро приезжали — кольца сняли, подоили по пять своих коров, ведра оставили и ушли спать. Все равно существовала обязанность самим трудиться.
До революции в Калмыкию раз в год регулярно приезжали ювелиры-армяне и брали заказы. Они знали все богатые семьи, у кого сколько сыновей, дочерей, кто когда родился. К 16 годам маме уже заказали бирюзовые серьги, потому что это ее камень.
Ювелирам давали задаток, они уезжали и через год привозили ковры, ювелирные украшения. Целый месяц они жили как в гостях. Потом новые заказы принимают. Уехали, никто не знал, из какой они местности, но все им верили, настолько все было честно. Ковер хороший тогда стоил, как корова — 25 рублей. В год раз, когда наши шерсть продадут, обмеривали всех детей.
В год раз закупали полный воз. И привозили ткани рулонами, обувь — кучами.
Как-то заболел оспой дед Шарманджи- ев. Они поставили кибитку и вокруг окопали, больного поместили внутри. На селе сказали: кто будет ухаживать, они ему очень хорошо заплатят. Дед Морчуков взялся ухаживать. Еду им оставляли на меже. И дед вылечился, и Морчуков не заболел. Позже ему подарили за труды юрту, корову с телком, стали считать их родственниками. Если у Морчуковых кто замуж выходил или женился, Шарманджиевы полностью свадьбу обеспечивали. На Цдган и на Зул семьями приезжали в благодарность за то, что дед Морчуков нашего деда выходил.
Мама хорошо говорила по-русски, много читала. Она была грамотным человеком для своего времени. Она закончила Ставропольский торговый техникум. Я с детства помню, как мама говорила: «Сапоги мои того — пропускают Н.,0».
В Элисте, когда мы вернулись из депортации, мама читала все журналы и газеты. Она запоем читала и нам говорила: тут интересно, вот тут прочитай в «Сельской жизни», «Труде», «Огоньке», «Работнице», «Крестьянке», «Вокруг света», «Науке и жизни»...
Мама говорила, что романтических чувств, ухаживаний до брака не было. Пришел срок, ее засватали, и она вышла замуж. Про отца она говорила, что он любил порядок с педантизмом. Она не работала. Одевалась прекрасно. У нее и свое все было. Как все калмычки, она сама очень хорошо шила. Когда я была маленькая и мы были бедными, мама нам сама шила. Девочка-калмычка должна была уметь шить. Машинка у них была, но и до машинок их учили так шить, чтобы стежки были такие ровные и мелкие, что не отличить какой шов: машинный или ручной. У нее были очень хорошие вещи, сшитые профессиональными портными.
У мамы была беличья шубка. Раньше мех носили вовнутрь. Внутри была белка со всеми хвостиками, а рукава были из серого каракуля. Сверху был черный бархат. А у папы была лисья шуба, а снаружи------- бостон.
[19]30-е годы были голодные, золотые вещи мама в торгсин носила, она их на муку меняла. А шубы наши в ломбарде в Ставрополе висели. Уже в Сибири мама свою беличью шубу распорола, мне сделала курточку с серым каракулевым воротником.
Мамин калмыцкий костюм до войны в музее висел. Это были густого зеленого цвета хувцн, бархатный шиверлык и накидка. Но не такие, как сейчас носят артисты, а узоры были помельче, трафаретом вышитые золотыми нитями, но более изящные.
В 1929 г. наша семья как зайсанги была выселена в Сталинградскую область. Когда моего деда выслали, вся деревня горевала. Все-таки он держал какой-никакой заводик, рабочие места давал. Платил им. Тогда там сады водились, земля была благодатная. Те, кто трудились, сады и огороды держали. До революции столько работы, как при советской власти, конечно, не было. Потом совхоз или колхоз образовывали, когда еще он там поднялся.
Потом, в 1930 г., зайсангов стали выселять за пределы европейской части, за Урал и в Казахстан. Мужчин должны были выселять через пересыльные тюрьмы. А жены с детьми должны были сами добираться до места назначения.
Маме сказали ехать в Караганду. Но она пришла в сталинградскую тюрьму, принесла передачу отцу, и маме сказали, что он умер. Ему было всего 33 года. Мама добилась свидания с дядей, и он ей сказал: если Эренцена нет, ну, что ты поедешь в эту Караганду? езжай в Ростов, там жил младший брат Георгий, он учился в университете. Мама, можно сказать, сбежала с этой ссылки и осталась без документов. В Ростове она устроилась на Россельмаш в швейный цех — шила капоты на комбайны.
Детей мама отвезла в Сальск, к Дул товым. Они прятали нас почти полгода. Из четырех детей выжило двое, два сына умерли за полгода, а старший сын Александр и я выжили. Нас выпускали гулять во двор, когда он был закрыт и посторонних не было.
Из Ростова мама завербовалась на работу в Кисловодск, в санаторий дояркой. При санатории был свой молочный завод. Мама говорила, они сами делали сыр «бакштейн». Поселок назывался Key. Мы жили за рекой Ольконовкой. У нас был двухкомнатный коттедж.
Брат Саша ходил в школу и каждый день нового щенка из школы приводил. В подвале он разбил собачатник, по всем клеточкам рассадил собак по породам. У мамы в сун
дуке был желтый сахар-сырец. Он как рис был. Саша гвоздем открывал сундук, брал стакан сахара, и мы этот сахар ходили менять на ведро помоев. Этими помоями мы кормили всех своих собак. Как-то у мамы спросили: а что твой сын каждый день приносит сахар и меняет на помои? У вас что, поросята? — Ничего нет. Пришла домой, узнала, и тут мама разогнала щенят. Их же кормить надо. Но Саша так плакал, что одного щенка мама разрешила оставить.
Мама хорошо работала, жила по каким-то справкам. Материально мы жили нормально, были сыты. Часть ценностей сохранилась. Потом мама вышла замуж за Б. Д. Буцынова. Мама вышла замуж не по любви, не по романтическим соображениям, а потому что надо было выправить документы. Замуж она выходила по расчету. Она не имела права на личную жизнь, у нее была ответственность за двоих детей. Они были почти ровесники. Ей было 33, а ему 35. Отчим был из бедной семьи, из нашей Кердаты. После регистрации она получила паспорт и могла свободно жить, не опасаясь. Они переехали в Ставрополь, и она поступила учиться в техникум, а он — в пединститут.
В декабре 1939 г. мы приехали в Элисту, родственник моего родного отца мне сказал: твоя настоящая фамилия — Польтеева. Будешь паспорт получать, возьми свою фамилию, ты еще будешь гордиться своим отцом. Мама мне сказала: ты можешь взять свою фамилию, а Саша — нет, он мужчина, его будут преследовать. Она боялась, что он будет подвержен репрессиям. А мне она говорила: ты — женщина, выйдешь замуж, сменишь фамилию.
Отчим маму уважал. Иначе не взял бы ее с таким нелегальным положением и с двумя детьми. Он ведь свою первую жену оставил из-за мамы, но двоих детей взял с собой. Мы так и жили все дети вместе: мы с Сашей, Лида и Борис. Борис женился на немке, остался в Новосибирске.
А Лида, 1925 г. рождения, попала в труд-армию. Это был советский концлагерь. Она пришла оттуда инвалидом и скоро умерла. Они были на казарменном положении. Их водили, как заключенных, с собаками под дулами автоматов.
Двоюродный брат отчима Никита Буцынов служил в армии, и его часть в 44 г. стояла в Новосибирске. Как-то они стояли и ждали, когда колонну проведут с собаками. Было много калмыков, и он узнал свою сестру Лиду. Он был офицер, за ними пошел, зашел на вахту и спросил у охраны: что за заключенных сейчас провели? Это не заключенные, это дети врагов народа, это хуже, чем заключенные, потому что у заключенных срок есть, а эти бессрочные. Мы про них ничего не знаем, их офицеры приводят по списку и назад уводят.
Шли на вахте офицеры сопровождения, и он к ним обратился. Он сказал, мне показалось, что моя сестра прошла. Как фамилия? Да, есть. Это дети спецпереселенцев, они работают на военном заводе, их так водят, чтобы они не разбежались. Сейчас это Сибсельмаш. А в военное время там был минометный завод. Там были не только калмыки: дети немцев и дети русских, кто был старостами и полицейскими. Дочка старосты из Смоленской области говорила: какой там староста! Деревня сказала его выбрать ...
Лида наша в 1948 г. умерла, она получила туберкулез брюшины, попала она в лагерь в 1944 г., в начале 1945 г. ее освободили. Зимой ее привезли, она была в ботинках на деревянной подошве. Тетя Рая, жена дяди Никиты, работала медсестрой в военном госпитале. Она белую простыню постелила на пол, посадила ее на стул, ее машинкой обстригла, всю одежду и волосы сожгла. Нечего ей одеть, дали ей солдатскую гимнастерку, юбку и белье. Вымыла ее всю в ванной, а наутро опять вшей полно. Как будто из тела выходят. И так целый месяц она ее мыла и кормила.
Война началась 22 июня 1941 г., а мой брат Саша 17 июля 1941 г. добровольно пошел в Ростовское пехотное училище. Он провоевал всю войну и погиб за четыре месяца до ее конца, в декабре 1944 г.
Немцы пришли в Элисту в августе 1942 г. Время оккупации я помню плохо, она была всего четыре с половиной месяца. Радость никто не ощущал. Мы испытывали тревогу, так как все знали, что наш Саша служит в Красной армии.
Вокруг Элисты все росло. Мы, дети, ходили на поле недалеко от старого аэродрома копать картошку. В конце сентября за плитку чая и десять пачек махорки мама наняла двух стариков на верблюде, чтобы нас всех перевезти в Кердату. Мы уехали из Элисты в Кердату и оставались там до высылки.
Отец Володи Косиева был другом моего родного отца. Мы с Володей учились вместе в школе № 2. Когда Володя попался, бабушка приходила к маме. Бабушке Володи Косиева было, наверно, под 60. Тогда женщина под 60 выглядела совсем по-другому, чем нынешние 60-летние. Ей сказали, иди к немецкому коменданту, попроси за него. Тебя никто не осудит, ты пожилая женщина. И когда она пошла к коменданту и сказала: сына моего репрессировали, это мой единственный внук. Отпустите его. Ей дали свидание. Они сказали: мы можем жизнь сохранить, если он сам раскается. Она пришла, а Володя говорит: раз я попался с ребятами, значит, моя жизнь на этом кончилась. Один раз умирают. Я умру, но с честью. Бабушка, не ходи, не унижайся, никого не проси. И больше она не пошла никуда, она была уверена, что, если его немцы отпустили бы, наши бы его расстреляли как предателя. А Володе в то время было 17 лет.
Какими мозгами надо было партизанское движение в голой степи создавать? У нас же не брянские леса, все просматривается как на ладони, укрыться негде. Эти дети были именно патриоты. Их жизнь — просто подвиг. Может, ничего весомого они не сделали, не успели ничего уничтожить. Но умерли героически — за идею, за убеждения. Ну что они могли такого сделать? Поездов не было, поездов не взрывали.
В Калмыкии большого зверства не было. Может, не успели. Шли войска, им не до этого было, армия пришла и прошла. Это следом шли и устанавливали порядок. Ну конечно, евреев расстреляли, это понятно.
В старосты люди выбирали достойных людей. Дураки не нужны были никому: ни русским, ни немцам. Немцы сами не назначали, говорили: выдвигайте сами. А выдвигали более-менее авторитетных, порядочных людей. Я тогда была маленькой, сама я не знаю. Но мама говорила, что городской голова Пуглииов был очень порядочный, хороший человек. Он был ее односельчанин. Он был пролетарского происхождения, не зайсанг, не кулак, сам выучился. Мы уехали из Элисты в конце сентября, о больших массовых расстрелах, кроме евреев, я не слышала. А все остальное — это люди.
Люди сами на себя доносят. Говорят про тех и про других.
Когда нас освободили, мы пошли все работать. В январе освободили, а в марте мы уже ходили по дворам собирали военный налог — 300 руб. со двора. Мы ходили с Петей Укурчиновым с мешком и по полмешка денег приносили пешком в Башанту.
Башанта все-таки аграрный район. Как только война началась, 15-16-летних мальчиков и девочек стали учить на механизаторов в Башантинском совхозе-техникуме. Наша сестра Лида Буцынова на комбайне заработала очень много зерна, в [19]42 г. был очень хороший урожай. Мы все съели, сколько народу. Бабушка наберет мешок зерна и помелет вручную. Нам на неделю хватало. Что покрупнее — на кашу, что помельче — на hyup (лепешку), hyup в золе пекли. И так за зиму мы все съели. Весной мама пошла уже вещи менять — то на соль, то на зерно. Нас еще не выселяли, а мы уже жили тем, что вещи свои меняли. Пока еще будет урожай в колхозе! А потом, когда освободили, пришли и у кого какое зерно сохранилось — забрали. Сеять колхозу нечем было, и запасы все забрали.
А моя семья работала в колхозе «Пролетарская победа», то посевная, то уборочная. Там жили эстонцы и немцы в колхозе «Шин тѳрл» (Новые родственники). Советских немцев в [ 19]41 г. выслали, остались калмыки и эстонцы. А потом калмыков депортировали, эстонцы остались. Совхоз был богатый, даже виноградники были. Мама работала на винограднике.
В школу мы пошли 1 октября [19]43 г. Я пошла в 9 класс учиться в Башанте и жила у родственницы, у бабушки Улюмжиевой. Это тоже хорошие знакомые Польтеевых. Надя, ее дочь, была эвакуирована, потому что в райкоме партии работала. Вот ее, дядю Сергея Ховлюкова, их вроде как с парашюта наши сбросили над Башантой, они вроде как освободили Башанту. Немцы ушли, а они советскую власть восстанавливали. Надя работала в райкоме партии, и она знала, когда нас выселять будут. 26 декабря 1943 г. она пришла домой и сказала мне: собери вещи, сейчас поедешь домой, я тебя на машину посажу. Я говорю: а нам каникулы еще не объявляли. Тут она мне тихо говорит: никаких каникул, нас выселяют и тебе надо попасть с родителями. Мы вышли на
дорогу из Башанты. Она остановила машину, которая шла выселять. Спросила, куда едут, и попросила подвезти девочку. Нас грузинские солдаты выселяли. А я с собой ничего не взяла, только чемодан учебников. 27 декабря я приехала, а 28-го к нам пришли и зачитали приказ о депортации.
Все так растерялись. Оказывается, мама что ни клала, я все выкидывала, говорила: мама, нас не выселяют, нас вывезут и как евреев расстреляют. А потом один солдат сказал: возьмите все продукты и теплые вещи с собой. Почему он так сказал? Нам соседи передали Сашкины письма, которые пришли после нашего отъезда. Солдат увидел на столе треугольники и спросил: а кто у вас в армии? — Мой сын, сказала мама. Тогда он сказал: вас выселяют в холодные края, возьмите теплую одежду и побольше еды с собой. Тогда мы все подушки вытащили и положили теплые одеяла.
Нас было четверо детей и мама с отчимом, который был инвалид, у него коленка не гнулась. Нас везли из Сальска через Ростов. Наш председатель колхоза «Пролетарская победа» Виктор Васильков, я хорошо помню, у него была молодая жена Дуся и грудной мальчик. Этот колхоз был миллионер. В [19]43 г. этот колхоз на проданный виноград купил самолет для фронта. У Василькова была медаль Отечественной войны 1-й степени. И с этой медалью на груди он ехал. Он был раненый фронтовик, лет 35. Его мать умерла в дороге. Когда люди умирали, их просто выкидывали на остановках.
По дороге ехали в ужасных условиях. Кормили нас в больших городах — в Омске, Новосибирске, один раз в сутки. С нами ехали военные. На остановках в очереди у котла народу много. Андрей Бембинов всегда, когда котелок подавал, кричал: «Старшему лейтенанту погуще!». Он так чудил. Все смеялись. Так за ним и осталось «Старшему лейтенанту погуще». Шутили, живые же люди.
Хлеб давали мешком. Почему-то маму выбирали хлеб разрезать, она так хорошо, ровно резала. Потом кому-нибудь глаза завязывали и спрашивали: это кому? Тому — чтобы не обидно было.
В туалет ходили в ведро. Все терпели и ждали остановки, тогда выходили и уже не стесняясь оправлялись. Как-то поздно вечером одна девушка, лет семнадцать ей было, лежит на верхних нарах и басом говорит по-калмыцки: баава, баасн курчэнэ (какать хочется). Ее мать соскакивала и говорила нам, кто внизу не спал и сидел у печки: буру хэлэтн ‘отвернитесь, смотрите в сторону'. И вот, сколько она живет, так за ней и осталось: «Баава, баасн курчэнэ».
На крещенские морозы 19 января нас привезли на станцию Сон Красноярского края. В этот день было 42 градуса мороза. Дым шел прямо-прямо. Нас привезли на 38-ю параллель, граница вечной мерзлоты, там картошка не росла.
Когда нас привезли, мне показалось: кто-то там стоит вдоль дороги, что-то держит. Вдоль дороги люди стояли, их согнали с ближайших сел. Они тоже были плохо одеты, в валенках, телогрейках все закутаны. Они, оказывается, картошку сварили, завернули ее, и нам казалось, что они детей держат, а они картошку в кастрюлях держали. Они кормили привезенных людей.
Председатель колхоза смотрел, у кого была более-менее здоровая семья и мало детей, тех он сразу забирал в колхоз. А у нас много было детей, кому они нужны, едо- ки-то, нас не взяли. Кого не взяли, всех в клуб поместили. Мама взяла ведро, пошла за водой чай сварить и не смогла. А вода где? — Прорубь на речке. Такой был мороз. Она тут же вернулась, взяла шерстяное одеяло, вырезала и стала шить варежки. Потом на ноги ноговицы сшила и потом только пошла за водой, потому что рука прилипала к ведру. Ноговицы как бурки, в калоши надевали. Как мы помещались, не помню. На одну семью одна кровать или топчан. Каждому свой уголочек — два метра. Тут и живешь. Две печки горят круглые сутки, и дрова привозили из леспромхоза. А сами дежурили — каждая семья по часу, чтобы дрова горели в печке.
В этом леспромхозе уже жили высланные немцы, эстонцы, финны, латыши. Они уже адаптировались, они ходили на лыжах. Особо большого сочувствия, чтобы они там с куском хлеба пришли, я такого не знаю. Конечно, люди все равно сострадают. Они тоже с этого начинали — их тоже привезли и выбросили. Сибиряков, может, заставляли прийти с картошкой, но они пришли. Можно обязать и не сделать. А они пришли все-таки, разворачивали кастрюли, и пар от картошки шел, как дым, и кормили горячей картошкой. Мы жили в клубе до весны.
Самый тяжелый период был первое время ссылки. Народ с юга, весь раздетый. Ни у кого не то что валенок, ботинок не было. Все в брезентовых туфельках приехали. В Калмыкии же чуть ли не до декабря ходишь в туфлях. А до войны люди бедно одевались. За первую зиму мама все обменяла на картошку, вплоть до постельного белья. А я ехала в платье, простых чулках, платье фланелевое, туфли, чулки, рейтузы, пояс для чулок, ситцевая рубашка, кофта. Сверху шерстяное полупальто, на голову беретик. Тогда девочки в штанах не ходили. Спортивные костюмы в школе считались роскошью, в них только на занятия физкультурой ходили. Мы же вещи меняли еще в советское время. Четыре месяца оккупации никто не работал, советские деньги не ходили. За три-четыре месяца мы все зерно бабушки съели, которое сестра Лиза заработала.
Эту зиму мама моя работала. Кроме башантинцев, были люди из Юстинского района, они очень плохо по-русски говорили. А мама моя хорошо говорила и стала бригадиром на лесоповале. Она там инструктаж проходила и сама страшно боялась. Работать надо было обязательно. На иждивенцев давали 300 грамм хлеба и на работника — 500. Хлеб был черного цвета, мокрый, картошка с чем-то, 500 грамм — это маленький брикетик. Мама на всех ровно делила. Утром всем нам даст и так до следующего утра. Пили калмыцкий чай подсоленный. Я потом сравнивала, когда доктор Хайдер голодал, протестуя против войны во Вьетнаме, он пил подсоленную воду. Калмыки выжили, потому что пили калмыцкий чай подсоленный.
В первый год в леспромхозе мама меня с собой брала в лес. Кору мы из пеньков обрубали и штабелевали, чтобы хлебную карточку больше получать. Идем в лес работать — плачем, возвращаемся — плачем. Почему-то все время плакать хотелось.
Конечно, малыши пухли от голода. Мы еще вещи меняли на картошку, и мама нас кормила дополнительно еще один раз картошкой. Когда варили картошку, она следила, чтобы все картофелины были одного размера. А брат мой Толик, который умер, мама его больше всех любила. Он пока не выберет, нам не раздавали. Если он не выберет, он плакал. Она говорила: пускай Толя выберет... Он долго смотрел, а потом выбирал себе. Он себе выберет, а потом она нам раздаст, и мы уже без звука, что дали, то и едим.
Когда картошки было много, она варила по две на каждого, а потом по одной картошке. Чай мама заваривала, что с собой взяли, потом даже сухофрукты покупала, заваривала, лишь бы чуть желтого цвета был, и чуть подсаливала. В первый год наши дети в школу не ходили. Вначале их обзывали, в штыки принимали. Мне рассказывали такие случаи, когда просто убивали на национальной почве. Взрослая женщина чуть ли до смерти забила ребенка за то, что он у нее свеклу украл. Такие единичные случаи были.
Мое мнение, что сибиряки более терпимы, чем население центральной России. Потому что предки сибиряков — тоже бывшие каторжане. Потом местное население безбедно жило за счет высланных народов в войну. Все же было дефицитом, во всем недостаток. Мама говорит, уже все променяла — и одежду, и постельное белье, все, кроме красивой крепдешиновой косынки. И косынку эту она променяла на два ведра картошки. Сибиряки как-то обогатились, многое за копейки меняли.
Там были поляки, эстонцы, немцы, латыши. Они были побогаче. Они были дисциплинированные. Они лыжники хорошие были, трудолюбивые очень.
Весной отец ушел в Баградский район пешком за 50 км — хромой человек ушел, устроился в какой-то колхоз бухгалтером в соседнем районе и на двух дохлых лошадях приехал за нами. Если бы он не приехал за нами, мы бы умерли. Все, кто остался, никто почти не выжил.
Самое страшное, говорят, это когда зимой люди умирали, их в снег закапывали, там ведь вечная мерзлота. А когда снег растаял, была ужасная картина. Я не знаю, как так можно было: людей, которые леса никогда в жизни не видели, — вот так их вывезти в лес и бросить.
А когда мы переехали в Баград, то нам очень помогала Гилана Карвина. Она наша землячка и мамина подруга. Врач и в Африке врач. Они очень хорошо жили по тем временам. Она же дочь Карвина, и ее пугали, что арестуют, пока она училась в Московском мединституте. В 1941 г. они от немцев из Москвы бежали в Башанту. Немцы в Москву не пришли, а в Башанту пришли. Во время оккупации к ней обращались как к врачу.
Билана всех наших малышей устроила в детский сад. И сказала, что они раздетые -разутые, им ходить не в чем, они будут только еду брать. Мама ходила за едой, брала пищу на троих детей, добавляла воду и всех нас кормила. С ней жила племянница Зина, Зинин отец был нашим дальним родственником, ее отца родная сестра была женой брата моей матери. У Биланы росла малышка. Девочка такая красивая была. Мы ходили ее нянчить. Я, бывало, так утром встану, ой, надо же идти нянчить. Понянчу, там меня обязательно накормят, дадут чашку чая с хорошим куском хлеба.
Мы потом уехали в колхоз жить. Там уже мать работать пошла. Я только осенью 1944 г. поступила на подготовительное отделение Красноярского пединститута. У меня девять классов полных не было, а приняли. Я девять месяцев проучилась, меня приняли на первый курс, и через полгода вышел запрет на специальность. Мама прислала письмо, что учителя-калмыки, кроме математиков, не имеют работы. А я на географический факультет пошла, чтобы математику не сдавать, кто же знал эту математику, мы же столько не учились. Я первый семестр проучилась, экзамены сдала и потом бросила. Шла по Красноярску и увидела большое объявление: Красноярское торговое училище производит дополнительный набор на третий курс. Успевающим — дополнительный второй хлебный паек, это меня так привлекло. Я забрала документы из института, и меня взяли сразу на третий курс. Стипендия была 180 руб. Я хорошо училась, кончила с одной или двумя четверками. Получила специальность. Зато я была сыта. Никто же не помогал. Диплом был бумажный, как справка, только написано «диплом».
У меня спрашивали про мою национальность. Я почему-то не стыдилась, что была калмычка. Сибиряки у меня не спрашивали, за что нас выслали, то ли потому, что мы были в тех местах, где все были репрессированные. Зато потом, когда я уже получила среднее специальное образование, в Новосибирске, там и круг общения другой был, у меня как-то спросили, за что калмыков выслали. Я сказала: выслали за то, что под немцами были, хотя всего четыре месяца, выслали всех без разбору. Что малыми народами запугивают большой народ. Надо бы украинцев выслать, но куда 50 миллионов денешь? Я многое тогда понимала. Но говорила так в своем кругу. Никто не донес.
Я помню, поехала в Алма-Ату к тете, маминой двоюродной сестре. Тетя давно была замужем за казахом, деканом географического факультета КазБУ. Сама тетя была врач, но тогда уже смертельно болела. За нами, за троюродной сестрой Лорой, студенткой КазБУ, и мной, ухаживали студенты-поклонники. Один из них, Асланбек, за мной приударил. Но что я буду романы заводить, если я приехала в гости на месяц? А потом он мне не особенно нравился. Он был эмвэдэшник, у него форма была — такая кокарда. И вот он уже видит, что никак не может он ко мне приклеиться. Как-то мы сидели, разговаривали: какая разница между казашками и калмычками. А я так сижу и говорю: калмычки более стройные, а казашки, видите, — низкий таз, кривые ножки. Он говорит: у тебя, что, не кривые? Боворю: нет, ноги у меня прямые, и рост у меня 162, еще каблучок. Для своего времени я не была маленькой. Никак он меня не достанет. И он говорит: вас выслали. Я спрашиваю: за что нас выслали, Асланбек? — За то, что вы все предатели. Я говорю: боже мой, да если бы война началась с вашей стороны, да видела бы я, как ты бежал бы навстречу китайцам со своей кокардой. Как он рассердился! А дядя Бали услышал из соседней комнаты, зашел и сказал ему что-то по-казахски резкое. Асланбек встал, извинился и ушел. Больше он к нам никогда не приходил. Потом мне дядя Бали сказал: знаешь, Сима, надо быть очень осторожной, ты же можешь отсюда домой не уехать. Ты же видишь, кто он, а ты ему такие вещи говоришь. Я говорю: а пусть он не говорит, что мы все предатели.
Тогда было принято ходить на вокзал. Часть солдат отпускали с Половинки, многих по болезни отпускали. Офицеры ездили свободно, уже война закончилась, семьи свои искали. Вот на вокзале: ты халъмгі — Халъмг. — Ас какого района тут калмыки живут? — Вот с такого. — А такого человека знаете? Мы случайно узнали, что наши родственники Буриновы живут в Новосибирске. — А кто там живет? Булки бээнэ куукдтэкэн? 'Булгун живет с детишками" (и начинает перечислять).
Отец-то наш Буцынов Ставропольский пединститут кончил. Он в школе преподавал историю и рисование, потому что рисовал хорошо. А по специальности не работает, его не допускают. Переквалифицировался в экономисты. Он стал писать в Новосибирскую комендатуру запросы и нашел адрес Буриновых. Они сделали нам вызов через комендатуру, и мы перебрались в Новосибирск. Тогда давали объединяться родственникам, когда они находили друг друга. В Новосибирске вообще было хорошо, там и комендатура была более терпимая, мягкая.
Мама кормила нас, когда мы в Новосибирске жили. Она купила швейную машинку «Попов», это старая машинка, она все шила — и шелк, и драп. Она брала заказы у людей.
Мы дружили со своими родственниками, моими троюродными братьями и сестрами, а из посторонних — на работе русские девчонки у меня были хорошие подружки. Из калмычек я больше всего дружила с Ариной А. Она вначале немш дахад халъмгудта (‘с калмыками вслед за немцами") уехала, ей было 16 лет, отец ее с собой взял. Но как они стали отступать, отец ей сказал: оставайся, впереди ничего хорошего нет, перебегай. Дал ей сведения, сколько немцев куда идет. Она перебежала, все рассказала, ей дали двух бойцов, информация подтвердилась. И ее взяли в армию. Когда все ее подружки приехали репатриированные, она вернулась из Берлина в погонах и со шмотками. Вообще она была такая справедливая, честная.
Я знала еще двух девушек, кто уходил за немцами и был репатриирован из Германии. Одна была медсестра Надя. В Новосибирске было пять девушек таких, которые назад вернулись, она была самая умная. Молчаливая. Я с ней дружила. Как только я оставалась у нее ночевать, комендатура сразу же знала. Комендант Сергей Згоев мне говорил: что ты привязалась к этой Наде? Ты у нее снова ночевала. — А что вы следите, что ли? — Нет, не следим. Что ты с ней дружишь? — А что? Она хорошая. — Я знаю, что хорошая, но она под колпаком. — Ну и что, от того, что она в Германии была? А при чем тут я? — Я бы тебе не советовал. Зачем тебе, чтобы свидетелем вызывали? — А причем тут я? — Может, она тебе что рассказывала? — Она как раз ничего не рассказывает.
Надя никогда ничего не рассказывала. Как-то мы с ней ездили в гости к ее родственникам. Только ее тетка с ней разговаривала, чаем угощала. Остальные родственники никто к ней подходил, боялись. Так отчужденно себя вели. Потом она вышла замуж за летчика. Он был офицер, а она — красивая такая. Ей надо было выйти замуж, она была на грани ареста. Он увез ее в Алма-Ату.
А Галина И. хотела, чтобы я за их родственника замуж вышла. Они меня пригласили в оперный театр: она с мужем и претендующий жених. А я опаздывала. Забежала, уже звонки. Все побежали. И жених меня не пропустил, а сам вперед проскочил. Я, как дура, сзади осталась. Я тут же развернулась и домой уехала. На другой день Галина мне звонит: ты что? — я потом расскажу. А когда он мне позвонил, я ему сказала, что мне дверьми чуть нос не прищемили, поэтому я уехала. Вряд ли он понял.
Новосибирск был промышленным и культурным центром Западной Сибири. Я всегда ходила в оперу. У нас Козловский полтора месяца пел. А театр «Красный факел» чего стоил! А ТЮЗ! Мой младший брат Женя ходил в студию при ТЮЗе, занимался танцами. Дудинская, Кривчения — они же все из Новосибирского театра вышли.
В кругу семьи мы обсуждали, за что выслали калмыков. Были разные мнения. Моя мама, например, была грамотная женщина, она так говорила: неправильно было в войну формировать национальные военные полки. Они дошли до своих мест и... Пусть не все, вероятно, были случаи побегов. Это факт. Куда ты денешься. Мама говорила, это наше счастье, что наш Саша ушел раньше добровольцем в военное училище. Ему еще 18 не было. Он в первый набор записался добровольцем. 52-я армия Власова вся состояла из русских, но их родственников не выселяли. Зачем надо было так формировать части? Надо было всех разбрасывать по разным частям. Это была ошибка.
Когда война началась, советской власти было всего 24 года. Она еще хорошо не укрепилась после революции. Еще было
много людей, кто жил в другое время. Наши братья, Леня Гунаев, 1923 г. р., наш Саша, 1923 г. р., старший брат Л. Б. Тапкина, 1924 г. р., — это было сталинское племя, они все ушли и все погибли «за родину, за Сталина».
А керенские мужики, когда война началась, им под 40 было, они в первую мировую войну воевали. Они опытные. Многие остались живы и вернулись. Саше был 21 год, он был капитаном, когда погиб. Вот с Сашей вместе в одной части служил Лиджи Сельвин, он был старше моего брата в два раза, он вернулся.
Другие наши родственники говорили, что несправедливо правительство поступает, что конституция гарантирует, что сын за отца не отвечает, а отец — за сына.
В Новосибирске мы уже сажали картошку. На заводе давали землю. В Мочищи мы ездили. Наше дело было посадить, два раза прополоть и собрать, потом в мешках на бровку, и профсоюз всем домой развезет. Мы жили в бараке, в комнате внизу подпол, где хранили картошку и уголь. Половина подпола — картошка, полподпола — уголь.
Отец у нас умер рано. В [19]48 г. Лида умерла в 23 года, отца старшая дочь, потом отчим умер. Мы остались мама, трое братьев и я. Так и жили. Ничего, все работали. Мама вела хозяйство. У нее всегда была тетрадка, она все расходы записывала. Потом, когда я уже самостоятельно жила, я говорила: мама, что-то денег не хватает. Мама говорила: дочка, такие деньги получаете, и у тебя не хватает. А у нее всегда хватало.
В Новосибирске мы уже хорошо одевались. Зимой на работу мы ходили в валенках. Как чуть тепло, были коричневые ботиночки «прощай, молодость» на каблучке с опушечкой. Чулки шелковые или фильдеперсовые. Если я тебе покажу фотографию 1949 г., ты скажешь, что у нас было все. В 48 г. шубка кроличья. Вот я, на мне: теплые рейтузы, гольфы шерстяные, чисто эпонжевая юбка (эпонж — это шерсть с шелком), креп-сатиновая кофточка. Все натуральное. Какое пальто, сапоги резиновые, шапочка меховая, жабо на плечах. Видишь, какие у меня ногти, какой у меня маникюр. Это Новосибирск, 49 год. Волосы плойкой завивали. Брови выщипаны, подведены, пудра, на губах помада.
Тогда были модные духи «Красная Москва», «Огни Москвы», Иногда мы смешивали и добавляли «Шипр». Какой был запах, и такой устойчивый! Духи стоили 90 руб. Это были большие деньги, 40 % моей зарплаты. Я купила и поставила их на тумбочку, на салфетку. А наш котенок как прыгнул и салфетку потянул. Духи разбились. В комнате такой запах. Я схватила шубу и туда бросила, потом шапку туда, пуховый платок. До самой весны запах держался.
У меня был ухажер, тоже высланный, когда он уезжал, его мама мне подарила эту брошку. Не думаю, что она золотая. Скорее всего серебряная, анодированная золотом — из полудрагоценных камней божья коровка. Петя был венгр. Его бабушка и дедушка были коммунистами и членами Коминтерна, дед был секретарем Коминтерна. А председателем был Димитров. Сам Петя родился в Москве в 1927 г. В 49 г. их дядя нашел через Красный крест. Когда я в 2004 г. была в Будапеште, муж моей племянницы Герел нашел его. Но я не захотела встретиться. Посмотрела я на себя и решила: зачем это надо? Пусть я в его памяти останусь молодой.
Я ходила на работу, была очень эффектная. Тогда я была интересная, тонкая. Ухаживали за мной и русские мальчики тоже. Но мама мне говорила, что не знает примера, чтобы калмычка вышла замуж за русского и долго с ним жила. Вот калмыцкие мужчины хоть на ком женятся и живут. Я это приняла во внимание. Поскольку я из такой семьи, которая задолго до депортации все пережила, всегда я знала, кто я такая. Какое бы сердце ни было горячее, а голова всегда оставалась холодной. Я всегда думала. Вот этот мне нравится, я могла бы выйти за него замуж, но я сама себе говорила: мне нельзя.
У меня были две подружки-калмычки, я их знала по подготовительному отделению. В Красноярском пединституте с нами учились две девушки, наши кердатинские тоже. Они были постарше, фронтовички. Война началась, их забрали в армию из Ростовского медучилища. Их из Венгрии вернули как калмычек. А тогда всех фронтовиков брали в вузы без экзаменов. Тогда даже без документов принимали. Сказал, что окончил 10 классов, давай, если потянешь, то — твое. Не потянешь — нет.
Галя с Тамарой поступили в Ленинградский мединститут, который был в эвакуации в Красноярске. В мединституте не было своего общежития, и их поселили в наше. Комендант знал, что я калмычка, и в мою комнату поселил. Как-то они не потянули учебу, там и химия, и биология. Пошли работать на гидролизный завод. Тамара была начальником охраны. Она была членом партии, Галя — кандидатом. Они были такие тонкие, ходили в военной форме и ремень вокруг талии два раза оборачивали. За ними в 1945 г. приехали женихи-фронтовики. За Галей приехал украинец Леня Турчинский из Винницы, забрал ее. А к Тамаре приезжал сержант Леша. Он был инвалид. Она с ним дружила в госпитале. Тамара сказала ему: я высланная, ты — без ноги. Ну что мы за семья. Будем мы с тобой нищенствовать. Он бедный целый месяц возле нас околачивался, плакал-плакал и уехал. Она вышла за калмыка, он много пил, рано умер.
К тем, кто служил на фронте, относились хорошо. К фронтовичкам люди относились с уважением, власти — со снисхождением. Все-таки различали.
В 1949 г. я попросилась в гости в Алма-Ату. Меня отпустили. Понимали, что честные люди, пострадали только из-за своей нации. И к нам неплохо относились, знали, что наш брат погиб на фронте.
Многие сейчас вспоминают зверства, а я вот не могу вспомнить особых зверств комендантов. Может быть, я просто не сталкивалась. Я помню, еще в первый год, когда выслали, всех комендант вызывает, вызывает. Оказывается, они всех классифицируют: кто чего. Вот наша семья — они уже знают, что сын наш — офицер в армии. Наверное, знали и про тех, у кого в семьях дезертиры. И еще в Красноярске со мной комендант беседует и спрашивает: а что ваши соседи говорят? А я ему так ответила: я так воспитана, что никогда не слушаю, кто что говорит, если они ко мне не обращаются, и что люди говорят друг про друга, меня не интересует.
Он так на меня посмотрел и сказал: «Идите».
Они знали, кого вербовать, кто склонен донести. А были люди, которые специально подслушивали, писали и доносили. Люди подозревали тех, кто доносил, и понимали, при ком что можно говорить. Все равно это характер человека. Я вот никогда бы не донесла, так воспитана. Мама говорила, к тебе не обращаются, вообще не слушай. Взрослые говорят, ты вообще уходи в сторону. О людях не суди, и тебя судить не будут. МууИан куунд узлгдхм бит Торе людям не показывай, держись прилично'. Хочешь плакать, поплачь одна. Считалось неприличным стенать, кричать, горе свое оплакивать. Надо быть выдержанным человеком. Она меня настолько запрограммировала... Когда муж мой умер, мне было стыдно перед людьми, что я не плачу, стою окаменевшая. Здоровый мужчина умер от анафилактического шока. Весь совхоз шептался, обсуждал, что я не плакала.
Мама, может, и была верующая, но никогда не молилась ни по-калмыцки, ни по-русски. Она была таким человеком, который никогда ничего не осуждал. В беседах со мной она никогда не высказывала оценок, не отрицала Бога. При этом она говорила, что буддийская вера — это надо Бога в душе держать. Ни икон, ни четок у нас не было, к знахарям никогда не ходила. Но ни русского, ни калмыцкого Бога не отрицала.
В то же время она себе буйн кечклэ ‘сделала отпевание'. Нээмн гелюнг, какой-то дальний родственник Шарманджиевых, он все время в Иркутске жил. Он приезжал в Калмыкию в начале [19] 70-х, мама говорила, он настоящий монах, не женатый. А когда мама заболела, перед смертью сказала мне: если я умру и трудно будет найти монаха, чтобы сделать отпевание (буйн), и не надо. К разным шарлатанам не надо ездить. Ты не волнуйся, нам уже буйн сделали при жизни. Это было в [ 19]70 г., мы сделали себе при жизни с тетей Гиланой и тетей Байкаде, а умерла она в [19]86 г.
Мы просыпались в 7 утра, потому что в 8 надо было быть на работе. Утром наспех русский сладкий чай с хлебом попили и ушли. Обедали мы в столовой. Всегда было принято в столовой обедать. Тогда было невкусно, но дешево. Я всегда работала по специальности, экономистом или бухгалтером. Хорошо зарабатывала. По тем временам все тоже было дешево. Могла на зарплату купить себе пару туфель, и хватало на питание.
После работы, она заканчивалась в 5, домой на трамвае ехать минут 40. Мы могли пойти в кино, раз в неделю по воскресеньям на танцы. Я ходила в кружок бального танца, училась танцевать. Летом в сад Сталина ездили на танцы. Также и вечеринки устраивали: то именины, то крестины, то складчины. Я помню, икру красную мы покупали на бутерброды. Спать ложились всегда в 11.
Мне всегда шила одна москвичка, еврейка Гита Исаевна. Я как бы рекламировала ее работу. Она всем подряд не шила. Она была выслана в 1941 г. из Москвы из-за своего мужа-немца. У нее был единственный сын, под Москвой на окопах погиб. Они меня любили. В то время ей было 45 лет, а в наших глазах она казалась старушкой. Она на мне все модели пробовала. Она привыкла в Москве хорошо жить. Я ей всегда, когда к ним приходила, старалась помочь: вам надо полы помыть? Я ей полы помою, посуду помою, а она шьет. Она меня научила в театр на премьеру ходить. «В театр надо ходить на премьеру. Ты, Симочка, купи мне пару билетов». Она в театре всегда подсмотрит какой-то фасон. Но она была привередливая. Русским она почти никому не шила, только еврейкам, из калмычек только я у нее шила по рекомендации. Они жили в одной коммуналке с венгерской семьей.
Кампания у нас была такая: венгр Петя Тардот, эвакуированная еврейка Сара Френкель из г. Лида. Они не высланные были, а бежали оттуда. Она закончила обувной техникум и работала на Кировской фабрике в ОТК. Она мне обувь приносила. Я у нее была «эксперимент». Она на карточку напишет. Когда порвется, когда потрется, я записываю — ей скажу.
Все так сдружились — все опальные. Надо сказать, что нам даже завидовали, думали, что мы такие гордые, к нам на драной козе не подъедешь.
На калмыцкие вечеринки мы тоже ходили по советским праздникам. Даже родственники могли сказать: мы у вас будем отмечать. Ну, приходите. Приходили всегда только родственники: все с мужьями и женами — двоюродные, троюродные. А что, картошки наварили, капуста квашенная.
А на праздники мама борцыки напечет, пирожки с картошкой, капустой целую эмалированную чашку. А потом маму учили бражку делать, и мы пили бражку. Я в первый раз, когда пила, не знала, сколько надо — сразу целый стакан выпила, и мне было дурно. Если родственники в праздник у кого-либо гуляли, никто не смел отказать. На 1 мая ездили на маевку, а Новый год, 7 ноября — у кого-нибудь, все приходили. А калмыцкие праздники никогда не отмечали. У наших родственников я не помню, чтобы отмечали Цаган или Зул.
В Сибири я по вкусу не понимала, какое мясо: свинина или говядина. А баранину так вообще не видела, пока на родину не приехала. Мы очень редко ели мясо, я вкуса не различала. Я хорошо помню, котлета сырая свиная стоила 13 копеек. Мама покупала сразу 100 штук, холодильника не было. В нашей стайке (сарае) они замерзали на подносе, как в морозилке. Мама жарила, очень вкусные были котлеты. Мама покупала яйца, но нам с Женей не давала, а только Толику, который работал на кирпичном заводе. Она говорила: ты на свежем воздухе, ты — в конторе, а он — на вредном производстве.
Мама никогда не показывала своих эмоций, она была само спокойствие, никогда никому не завидовала. Она говорила, что она относится к поколению несчастных людей, что не вовремя родилась. Что свершилась революция, и все рухнуло. Класс, к которому она принадлежала, все потерял. Что надо было родиться или гораздо раньше, или попозже.
В комсомол я вступила в техникуме, там уже надо было обязательно в комсомол вступить. Мне никогда не говорили, что мне нельзя. Я не была круглой отличницей, две-три четверки были, но училась хорошо. Что помогало: среди сибиряков я иногда встречала ровесников, которые никогда кино не видели и не знали, кто такой Робинзон Крузо, не говоря уже о детях капитана Гранта. Когда мы были на полевых работах в бригаде, я расскажу, так они потом покоя не дадут, расскажи еще.
В то время мы в Элисте жили, отец — учитель, мы много читали. Я в седьмом классе уже читала Мопассана «Пышку», а потом «Милый друг», «Айвенго» В. Скотта и дальше. И запрещенных авторов мы читали — Чарскую «Повесть о рыжей девочке», стихи Надсона. Мы читали из рук в руки Блока, Зощенко — под партой, да, в Элисте во второй школе все читали. В нашем дворе было очень модно читать. До войны был академический переплет — как бархат.
В Сибири калмыки-ребята женились на местных девушках, и девушки охотно выходили за них. Жили хорошо. Их никто не осуждал. Мужчин вообще не осуждали, мама говорит: мужчина мог жениться хоть на ком. Потом в старину, если муж с женой разводился, он детей себе оставлял. Он говорил жене: одна пришла, одна и уходи.
Когда была спецпереселенкой, всегда завидовала тем, кто мимо проезжал в поезде. Я шла на работу, через Ельцовку поезда идут. Мне казалось, такие счастливые люди, которые в поезде едут с белыми занавесками. Они путешествуют, а ты не можешь никуда уехать. Единственная зависть.
На работе никто не расспрашивал, почему нас выслали. Даже если бы спросили, ну что бы ответила? Да не знаю почему. Всех собрали в один день и выслали. И не объясняли почему. Да, в любом народе война всегда рождает и предательство, и героизм.
В Сибири мы жили обособленно. Вот даже калмыки, не наши родственники, не земляки, они в наш круг не входили. С чужими общались мало, в основном с выходцами из Западного района. Наши родители так общались, и мы, дети, так общались.
На халъмг нэр я ходила. Всегда меня приглашали: ну приходи, приходи. Я по-калмыцки тогда не танцевала, не пела и хорошо не говорила. Потому что в Калмыкию мы вернулись в декабре 1939 г., а дальше война, и я плохо говорила. Но мне было интересно, я ходила. Тогда молодежь калмыцкая как гуляла? Никто же не пил — ни браги, ни водки. Ребята — Боря наш, мой брат сводный, Жора Шовунов, Петя Омадыков — они сядут, на гитаре, на балалайке, на мандолине играют целый вечер. А плясать еще не каждая хочет. Придешь, посмотришь, немного поучишься плясать. Народ собирался, веселился, и все на трезвую голову делалось.
Когда Сталин умер, все плакали. Хочешь, не хочешь, а слезы ручьем текли. Как будто отец родной. Мне казалось, что наутро жизнь остановится. Как же солнце взошло наутро, когда его нет? Настолько были зомбированы. Плакали искренне. Вот такой психоз был.
Мы услышали по радио, что будет концерт калмыцкой музыки. А потом уже дядя мне сказал, что он по радио слышал. Потом Саврушев приехал, он у Буриновых останавливался. Нам сказал, что Калмыкию восстановят. И в комендатуре стали говорить, что снимают с учета и режима спецпереселения.
Как только разрешили, я сразу же поехала в Элисту. Меня вся родня отправила как на разведку. Я приехала и написала им: «Что это за родина? Ветры дуют. Ни метра асфальта, ни одного дерева. Шляпу свою ношу не на голове, а на морде. Представляете, как я выгляжу? Я добиралась по такой отвратительной дороге, что вообще не только в жизни не встречала, но и не читала». Я ехала в белом шелковом платье и соломенной шляпе. Ветер был такой в лицо, что я шляпой закрывала лицо.
Я приехала с братом младшим. Он день и ночь плакал, все время говорил: пока мама не уехала, давай вернемся назад. Что это за город? Работать негде. Жить негде. Жара несусветная, не хочу я здесь жить. Я заняла денег у Ульяны, своей подруги, с которой встретилась снова, и отправила его назад.
Работы нигде нет. Народу много. Элиста была районным центром Ставропольского края. Я устроилась только по большому блату. Ануш Мутлович был в то время председатель Элистинского горсовета. У нас с ним один брат на двоих. Мамина родная старшая сестра была замужем за Сари Джимбиевым. Он москвич и не был выселен, всю жизнь работал на Курском вокзале инженером тяги. Я ехала через Москву и у них останавливалась. Вот он написал своему двоюродному брату: я тебя очень прошу, устрой на работу наших родственников Симу и Толика. И Ануш Мутлович меня по блату устроил в Сельхозбанк. Работать было негде абсолютно.
Город лежал в развалинах, как будто немцы только вчера ушли. Все как было разрушено, так и стояло. Русские встречали не очень дружелюбно, они от калмыков уже отвыкли. Моя школьная подруга рассказывала. Когда калмыков выслали, город стоял: во всех квартирах двери открытые. Кто был нахальнее, все вот так нажились на калмыцком добре. Ну, как мародерство. Я сколько семей знаю, кто на калмыцких слезах обогатились. Те, кто с калмыками жил до войны, они остались. А те, кто наехали позже, они быстро уехали.
Вот в нашем совхозе, «40 лет ВЛКСМ», в котором мы жили позже, калмыков не хотели принимать на работу. Потому что совхоз был зажиточный, богатый. Там было
мало калмыков, вернулись те, кто жил там до выселения. Те русские, кто до войны жили, они калмыков встречали благосклонно. А те, кто приехал позже, в основном из Ставропольского края, Краснодарского, те потихоньку поувольнялись и уехали.
Когда уже обжились, стало нравиться в Калмыкии. Весной вся степь тюльпанами покрыта, ступить негде. Сейчас климат меняется в худшую сторону. В совхозе я корову, гусей держала, свиней держала. Научилась корову доить, молоко подмышками текло. Мы жили богато, если бы мой муж не умер, я бы оттуда не уехала. Мне нравилось там жить. Я работала экономистом в плановом отделе. Потом меня уже выбирали депутатом в сельский совет, то заседателем в суде, то председателем женсовета. Главное — контора была сплоченная, и мы не чувствовали, что мы живем на селе. Я им так говорила: значит так, Нарановы выписывают «Новый мир», вы выписываете «Октябрь», третьи — «Москву» и т. д., все толстые журналы. И потом целый месяц мы обмениваемся толстыми журналами. Я свой прочла—тебе отдала, ты свой прочла — мне отдала. Тогда же подписку в городе было сделать дефицит. А в селе — бери, сколько хочешь. Я «Иностранную литературу» выписывала и «Вокруг света», и «Новый мир». «Огонек» мне всегда партком отдавал. А к «Огоньку» всегда бесплатное приложение было хорошее — Конан-Дойль шел, Голсуорси. В библиотеку каталог придет, какие галочки поставим, так все и вышлют.
У каждого поколения своя судьба. Первые два-три года из тринадцати были самые тяжелые. А потом уже вернулась жизнь в обычное русло. Жили как все. Так же радовались, так же работали. Так же женихи были. Так же хотели хорошо одеться, ходили в кино, на танцы, в театр.
Мне кажется, что наша жизнь чем примечательна — не было разгула преступности. На улице я не боялась ходить одна как угодно поздно. Я никогда не боялась никуда ходить, хотя цену себе знала: нерусская идет и прилично выглядит. Меня никто ни разу на улице не оскорбил, не обозвал, не тронул, камня не бросил. На танцах редко стояла, всегда приглашали танцевать. Конечно, мы сами себя держали, всегда знали, кто ты, чего ты. Знали: с кем попало не говорить, не общаться. Свою молодость я всегда вспоминаю хорошо. Хотя ты был морально несвободный, с какой-то меткой. Сказать, что кругом все люди жили хорошо, а мы, калмыки, — плохо, этого не было. Мы жили в одном городе. Одним воздухом дышали. Разве что мы были несвободны. Разница еще в том, что мы или не болели, а хоть и болели, никогда в больницу не обращались. Или не принято было, или боялись. Ладно, я была молодая, но и мама не обращалась в больницу. Тогда Лида заболела и умерла, отец наш заболел и умер. Вот сейчас, если что заболит, я сразу же к врачу.
Шла война, было одно общее горе на всех. Все равно были патриоты. Наши дорогие братья также погибли за великую Родину СССР. Нам казалось, что после войны разберутся, и все станет на свои места. Кажется, разобрались, хотя КПСС не покаялась — не принято.
Хочу сказать, что в целом что-то для будущих поколений было и хорошего. Например, живи я в Элисте, я до поры до времени оперный театр бы не знала. И Красноярский театр музкомедии тоже был прекрасный. Даже голодные оставались, на танцы могли не пойти, а в оперетту всегда ходили. Многие ребята получили технические специальности. Жили в большом городе, повысили свой культурный уровень. Раньше в сельскохозяйственной республике все упиралось в одно направление. Наряду с тем, что все было тяжко, было угнетение, какое-то развитие получил сам народ, он развивался, все-таки был толчок к прогрессу, к развитию.
Комментарии
Приведенные выше два биографических интервью с акцентом на депортационный период были, видимо, первыми цельными рассказами о себе и о жизни в Сибири С. М. Иванова и С. Э. Нарановой. В этих рассказах, апеллируя к событиям 60-летней давности, респонденты конструируют свое прошлое подбором слов и сюжетов, оценок и цитат.
Из приведенных рассказов стало известно, как стремились власти не просто перевезти людей на новое место, а перемешивали вагоны из разных составов, чтобы земляки не оказались в компактном поселении, чтобы предотвратить возможное сопротивление и чтобы вырвать людей из родственных связей, которые помогали бы выживать в новых условиях, чтобы высланным пришлось тяжелее осваиваться.
Первые годы в Сибири, которые были, безусловно, самыми трудными, в наши дни часто представляют только как «сплошное мучение». Для многих конкретных историй — это слишком схематичный подход. Наверняка испытаний было немало у многих семей, но, как показывают эти рассказы, всегда находилась возможность посмеяться, даже в холодном вагоне. В семье Ивановых стал востребован опыт отца, и бывшему председателю калмыцкого колхоза Манджиеву Ивану сразу предложили хорошую работу в Искитиме — толковых хозяйственников не хватало везде.
Из текста интервью видно, как свободно и уверенно чувствовал себя в обществе хозяйственный и шустрый парень Сергей Иванов, который должен бы быть Манджи- евым, как и его отец, а в документах был записан как Иванов — по имени отца. Вместо Манджиев Сергей Иванович он живет уже 85 лет как Иванов Сергей Манджиевич. Кто знает, может быть, и стертый этнический маркер личных имен помогал ему выживать в Сибири. Но все-таки коммуникативный талант Сергея и предпринимательская сметка помогали ему, подростку, решать такие сложные вопросы, как получение новой квартиры, строительство дома, налог на молоко. Но при этом рядом с механизатором-немцем он ощущал себя «топорным парнем».
Серафима Эренценовна Наранова родилась в богатой семье зайсангов. Видимо, мама не раз ей рассказывала о своем детстве и дореволюционном семейном укладе, и потому так ей запомнился и нам так интересен этот срез ее рассказа о бытовой жизни Польтеевых и Шарманджиевых.
Мы видим, каково приходилось женщине в 1920-1930-е гг., что уже репрессированные по социальному происхождению, готовы и к трудностям репрессий по этническому признаку. Мы видим разные гендерные стратегии для мужчин и женщин в это сложное время. В выборе фамилии отца-зайсанга или отчима-простолюдина опасность для девочки была не столь велика — только до свадьбы. Зато сыну фамилию репрессированного отца могли не простить, поэтому мать выбирает сыну фамилию отчима. И девушки с испорченной репутацией репатрианток выходили замуж, и умирала в этой социальности репатриантка, как символически умирает дева в замужестве. С новой фамилией в новом статусе уходили в новую жизнь те, кто своевременным замужеством смог исправить неудачи юности.
В рассказе С. Э. Наранова упоминает о трудовой армии, о которой мы также знаем недостаточно. Но приведенная зарисовка о сводной сестре Лиде дает некоторое представление об этом еще мало изученном репрессивном институте сталинизма.
Оккупация Элисты, длившаяся с середины августа 1942 г. по 1 января 1943 г. запомнилась жителям расстрелами евреев, и в декабре 1943 г. 17-летняя Сима уверена, что калмыков так же расстреляют, как и оккупанты истребили евреев год назад.
Из этих двух нарративов мы понимаем, как важны были узы родства для калмыков, как близкая ли, дальняя ли родня помогала при разных ситуациях, каким авторитетом пользовались родители. Слово отца, слово матери не оспаривалось тогда, но и сейчас, спустя годы, их справедливость осталась для информантов непререкаемой.
В каждом рассказе есть сюжеты о стигме этничности, о том, каково было ощущать себя сосланным, ходить расписываться в комендатуру. Потому наказывал своих обидчиков Сергей, который при всех этих обстоятельствах не был трусом, не осторожничал, говорил прямо и дрался, если считал нужным. Смело спорила о калмыках Сима, защищая свое достоинство калмычки, сестренка погибшего фронтовика. Эта настороженность при общении с некалмыками проявится и по возвращении: Сергей заметил «неуважительный взгляд».
Как многие мужские нарративы, рассказ С. М. Иванова содержит описание технологического процесса: как разбирать дом, чтобы из бревен построить новый дом, как приготовить перепелку в горловине трактора и пр. Как свойственно женскому рассказу, С. Э. Наранова упоминает названия тканей, духов и разные виды одежды. Но в сюжете о том, что Иван Манджиев не умел резать скотину, подразумевается не отсутствие навыков, а физическая неспособность убить живность, такое встречается в семьях, в которых в роду были буддийские священники.
В каждом рассказе присутствует педагогическая составляющая, поскольку я — единственный слушатель, и в моем лице все поколения молодежи должны услышать, как важно уметь работать, уметь общаться с людьми, быть сдержанным, учиться, если есть такая возможность. И тогда ничего не страшно в этой жизни.
Литература
- Бугай 1991 — Бугай Н. Ф. Операция «Улусы». Элиста: Калмыцкое кн. изд-во. 1991. 87 с.
- Гучинова 2005 — Гучинова Э.-Б. М. У каждого своя Сибирь. Два рассказа о депортации калмыков // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 400-442.
- Гучинова 2008 — Бучинова Э.-Б. М. У каждого своя Сибирь. Жизнь калмыков в Средней Азии// Диаспоры. 2008. № 1. С. 194-220.
- Мещеркина 2004 — Устная история и биография: женский взгляд / под ред. Е. Ю. Ме- щеркиной. М.: Невский простор. 2004. 269 с.
- Некрич1978 — Некрич А. М. Наказанные народы. Нью-Йорк: Хроника. 1978. 170 с.
- Ссылка 1993 — Ссылка калмыков: как это было. Книга памяти ссылки калмыцкого народа. Т. 1. Элиста: Калм. кн. изд-во. 1993. 262 с.
- Томсон 2003 — Томсон Пол. Голос прошлого. Устная история. М.: Весь мир. 2003. 368 с.
- Убушаев 1991 — Убушаев В. Б. Выселение и возвращение. Элиста: Санаи. 1991. 92 с.





