Цифровое право и проблемы этапной трансформации российской правовой системы
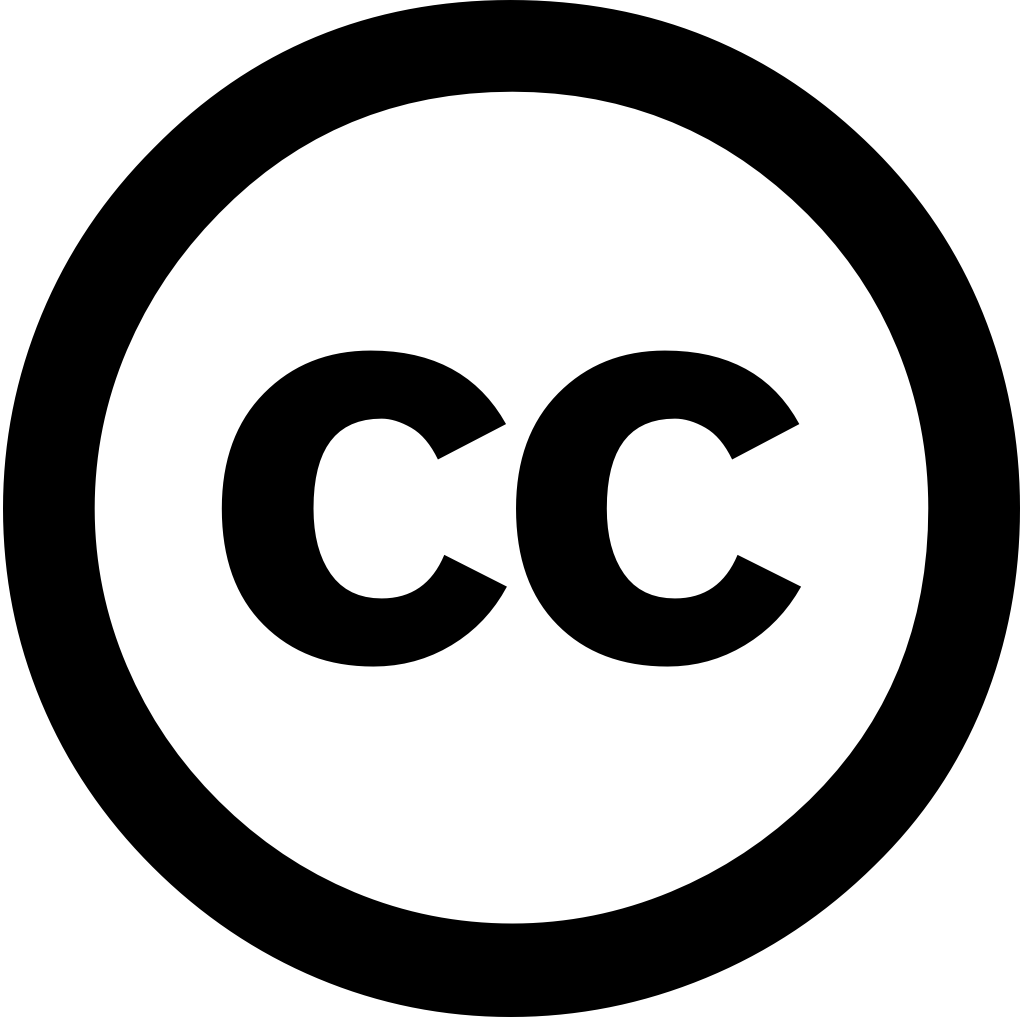

Published: Sept. 1, 2019
Latest article update: June 3, 2024
Abstract
Актуальность темы соотношения системы права с процессами цифровизации правового регулирования обусловлена фундаментальными изменениями, которые происходят в правовой системе России в связи с современными технологическими вызовами. Эти изменения автор квалифицирует как процессы этапной трансформации права и его системы. В статье рассматривается динамика эволюции правовой картины мира, обусловленная техническим прогрессом. Делается вывод, что новый технологический уклад изменяет не только привычный образ жизни людей, но и природу правового регулирования. Поставлена проблема системной правовой интерпретации технологической революции. Делается вывод, что сохранение системного единства правовой формы возможно на основе этапного пересмотра оснований макроорганизации права. Показано отличие современного периода развития права от классической эпохи, состоящее в том, что правовая культура вплотную приблизилась к включению в свой предмет виртуального мира. Отраслевой подход, основанный на одномерных или комплексных предметах и методах правового регулирования, уже не может выразить всей полноты природы права. Показана эволюция понятий нормы и института права на основе симбиоза деонтических и поведенческих элементов, которые характеризуют понятие юридической технологии. Делается вывод о нормативности технологических процессов. В работе обосновывается место и роль цифрового права в процессе этапной трансформации правовой системы. Обосновывается положение, что цифровое право выполняет функцию реструктуризации системы права. Раскрываются предметы и методы цифрового права как источника правового воздействия на общественные отношения. Вводятся понятия цифровой среды, которая создает юридизм нового типа; цифрового и аналогового права, показано их соотношение. Выдвигается гипотеза фундаментального и прикладного права, характеризуются их предметные области. На основе анализа структурной эволюции правовой системы в условиях технологических изменений обосновывается прогноз параметров будущего правопорядка. Делается вывод, что коллизии виртуального и классического правовых укладов могут быть разрешены на регуляторной основе цифрового права, которая нивелирует контрастные грани правовых дозволений и запретов. Ставится вопрос о субъектах развития цифровой правовой культуры, новом правовом языке, роли аналогового права в реструктуризации правовой системы, соотношении цифрового права и национальной правовой традиции. Выдвигается гипотеза национальных моделей цифровизации правовой культуры.
Keywords
Цифровое право, правовая система, аналоговое право, правовые технологии
В правовой системе России происходят фундаментальные изменения, которые с определенными оговорками можно назвать процессами этапной трансформации. Суть последней — в формировании новой структуры нормообразования, которая концептуально отличается от методологии традиционной системы российского права.
В условиях стремительного развития науки, беспрецедентного роста возможностей человеческого разума меняется правовая картина мира.

К чему ведут глобальные технические достижения? Они влекут глубокие перемены в привычном укладе жизни. К этому приводили все технологические революции, начиная с эпохи металлов в Древнем мире и заканчивая открытием электричества и киберпространства в Новое и Новейшее время.
Современная революция в технологиях — не только совершенствование орудий труда и преобразование окружающей человека среды. Особенность нынешних перемен, отличающая их от всех предшествующих эпох, состоит в том, что новый технологический уклад изменяет не только привычный образ жизни, но и природу правового регулирования. Результаты, получаемые в физике, биологии, медицине и иных областях, открывают перспективы нового этапа в понимании права, его категорий — воли, субъекта, правовой нормы, правоотношения, представления о которых оставались неизменными последние двести лет.
Более того, впервые появляется реальная перспектива установить прямую связь между природой и правовой культурой, преодолеть фундаментальный разрыв между естествознанием, социальной и гуманитарной наукой.
Основные черты юриспруденции XX в. состоят в следующем.

Такая правовая методология не может систематизировать явления, связанные со следующим этапом развития возможностей человека. Нынешнее правовое мышление основано на регулятивно-охранительном типе правосознания. Поэтому юриспруденция как относительно изолированная сфера общественных отношений всё более сталкивается с проблемами адекватности и эффективности.
Отставание права как социального института
- консерватизм методологии регулирования
- негибкость формы
- перманентные пробельность и избыточность
- социальная изолированность
- экономическая неэффективность
Делается всё более актуальной проблема системной правовой интерпретации происходящих социальных и технических изменений. Развитие новых технологий выдавливает традиционное правовое регулирование и опережает его в методологическом отношении. Классические юридические режимы процессуальной деятельности делаются тяжелым и дорогостоящим препятствием на пути инноваций во многих сферах.
Возможно ли сохранение системного единства правовой формы при столь бурной и сложной социальной динамике? Возможно — только на основе включения в правовое пространство новых оснований макроорганизации права.
Основные направления юриспруденции XXI в.
Юриспруденция в XXI веке
- оптимизация меры права
- диверсификация нормативности
- интеграция технико-социального регулирования
- движение к асимметрии правовой формы
- синкретизм методологии регулирования
Правовая культура ищет альтернативы иной интерпретации соотношения техники и природы человека. Границы между различными сферами знания и видами деятельности сейчас уже выглядят иначе, чем в XX в. Эти границы стали проходимыми уже в период поздней Античности, но сейчас этот процесс достиг наивысшего развития.
В чем суть нынешнего исторического времени права? Суть сегодняшней ситуации в правовом регулировании состоит в кардинально изменяющемся характере отношений человека в окружающем пространстве, появлении его новых неизвестных видов — виртуального, информационного, где фактически преодолеваются строгие границы человеческого и не человеческого как объекта материального мира.
Изменяется характер социальности: в него постепенно входят на правах субъектов и новых нетипичных объектов явления, по старой юридической классификации имеющие неживой, не субъектный и не объектный характер, — инженерия генома, биотехнологии, Интернет, искусственный интеллект.
Фактически эти технологии представляют собой гибриды, объединяющие человека с не человеческими сущностями, причем последние, будучи созданными, получают известную автономность от человека.
Старое разделение, на котором основывалось право физических вещей как независимых объектов, с одной стороны, и общества, культуры, состоящих из автономных субъектов, — с другой, начинает переживать кризис. Право в традиционном разделении не дает надежной юридической защиты отношениям человека в мире новых технологий и уже сейчас замещается неправовыми регуляторами.
В ближайшем будущем право в его нынешней системе будет не в состоянии контролировать новые гибридные сущности. Уже сейчас институциональные резервы системы права, ее арсенал предметов, методов, аналогий, фикций и презумпций находятся на пределе.
Итак, право как социальная система может развиваться, если будет выработано новое представление о соотношении природы и правового регулирования.
Инновационные правовые явления располагаются как бы между природой и обществом и требуют дополнительных представлений о системной организации права.

Значительное отличие всего предшествующего развития правовой системы состоит в том, что до сих пор юридическое мышление основывалось на собственном методе идентификации права, включающем элементы воли, интереса, цели, запрета и дозволения. Современная ситуация ведет к тому, что правовая культура вплотную приблизилась к включению в свой непосредственный предмет закономерностей новых виртуальных состояний человека. В правовое регулирование включается вся методология техники и искусственного языка техники, что ведет к существенному проницанию границ между социальными и техническими нормами.
Такого соотношения, когда неживые объекты становятся частью не просто быта людей, на чем основывается нынешнее правовое регулирование, но и частью самих общественных отношений, в истории правового регулирования не было. В системе права этим явлениям пока нет коррелятов, что требует реструктуризации доктрины и взглядов на составные части и инструменты права.

В институциональном плане правовой порядок соединяется с нарастающим полем функциональных регуляторов, которые сейчас переполняют нормативное пространство, подменяя и смешивая право с экономическим, административным и политическим нормо- образованием.

Стирание их границ уже привело к валу предметов в законотворческом и правотворческом процессах, разрастанию подзаконной сферы. Все это необходимо инкорпорировать, искать новую форму такой инкорпорации.
В структурном отношении базовые отрасли права стремятся к интеграции, высвобождая место новым образованиям специализированного и локального характера мульти регулятивной природы. Нормативная система стремится к большей универсальности и субсидиарности правовых комплексов на основе определенных принципов.
В доктринальном аспекте просматривается закономерность, что правовое регулирование гораздо шире и не совпадает полностью с государственным регулированием.
Социальные факторы реструктуризации права
- изменение технологических укладов
- конвергенция социальных и технических нормативных систем
- развитие социальных институтов
- обновление методологии социального регулирования
Соотношение правовой системы, системы права и социальной реальности делается гораздо более сложным. Новизна ситуации в доктрине заключается в преодолении взгляда на господство права как на социальное и политическое доминирование его классических инструментов.
Прежде всего, должны в известной мере поменяться теоретические представления на явление системности в отечественном праве. Отраслевой подход, основанный на одномерных предметах и методах правового регулирования, не может уже выразить всю полноту природы права.
Важное значение для переосмысления методологии системы права имеют классические понятия института и нормы права.
В отличие от института традиционной системы права как совокупности однородных норм, институт как предмет (объект) права включает сложный симбиоз материальных, нематериальных и поведенческих элементов, которые в целостности характеризуют понятие технологии.
Чтобы увидеть структурные процессы в праве, необходимо сделать технологии предметом правового регулирования на основе взаимодействия людей и объектов неживой природы. Человекоцентризм права эволюционирует в сторону техноцентризма, не утрачивая приоритета человеческого по отношению к технико-материальным объектам.
Таким образом, правовая система в нормативном аспекте не сводится к системе права, что делает ее гораздо более гибкой. Значительный ресурс этой гибкости заложен в обыденной человеческой деятельности. Именно в изменяющейся бытовой человеческой среде заложен инновационный механизм реструктуризации права. Новый правовой строй обусловлен новым укладом жизни человека, рамки которого расширяют прежние границы отраслей и формальных кодификаций с их однообразными методами правового регулирования.
Новые социальные контексты содержат значительные элементы саморегулирования, что свидетельствует об их правовой природе, которая приходит в противоречие с матрицей старой системы права.
Необходимы дополнительные юридические понятия и категории, исходящие из специфики современной технологической системности права.
Основанием необходимости такого изменения методологии является то, что позитивное право уже не всегда есть только сфера чистого долженствования. На позитивном уровне современного правового регулирования происходит выход за пределы нормы-долженствования в область нормативности фактических (технологических) процессов.
Нормативностью, вероятно, обладает технологическое пространство, которое синтезирует образ поведения участников общественных отношений. Поэтому новая сфера права — управление неживой природой, природой искусственной, виртуальной, формируемой на основе прежде всего цифровых закономерностей.
Переход от нормы-долженствования к принуждающей или стимулирующей технологии интегрирует право в сферу материального тех- нологизма, который все более проникает в систему права. В новой системе права преобладают синтетические технико-правовые режимы, которые не могут вызреть в одномерной и формальной правовой культуре.
Отражением этих процессов является появление в доктрине понятия «цифровое право».
Цифровые технологии имеют значительный регулятивный ресурс, все более становясь трансфером между природой и правовой культурой. При этом в рамках цифрового пространства природа права оказывается гораздо богаче, чем это могут выразить традиционные средства правовой систематики.
Что такое цифровое право? Обосновано ли такое научное понятие? Не является ли это сочетание своеобразной метафорой, применимой лишь в популярном и публицистическом обиходе?
С учетом процессов в технологической сфере и их влияния на правовое регулирование понятие цифрового права выполняет роль методологической категории, раскрывающей тенденции структурной трансформации российской правовой системы.

При определении цифрового права упор должен делаться не на формально-юридической, а на объективно-правовой и ситуативной сторонах правового воздействия.
Цифровое право — это нормативный правовой механизм, охватывающий и принизывающий важнейшие элементы российской правовой системы. Главный критерий выделения цифрового права — наличие цифровой виртуальной коммуникации субъектов, сеть которой в настоящее время неуклонно расширяется.
Субъекты права сами определяют границы цифрового права, вступая в виртуальные коммуникации. В этом смысле цифровое право преодолевает формальные рамки традиционных отраслей права и их законодательных кодификаций. Цифровое право исходно не нуждается в классической правотворческой систематизации. Он само — форма структуризации регулятивного материала.
Это явление, в котором предметы и методы регулирования совпадают: метод становится предметом, приобретает форму предмета правового воздействия, структурируя правоотношения в цифровом формате. Очертить границы цифрового правоотношения классическими средствами правоведения затруднительно. Цифровое право строится в межотраслевом и междисциплинарном техническом и юридическом измерении. Это — форма более правового воздействия, а не только правового регулирования.
Цифровое право создает пространство, где, в отличие от классического права, отсутствует отраслевая специализация. Оно перемешивает нормы и институты различной отраслевой природы, изменяя структуру права в классических правоотношениях. В цифровом праве классическое право сведено к минимуму, фактически к признакам признания и эффективности (этичности). Все иные признаки права — определенности, нормативности, общеобязательности — выступают в значительно преобразованном виде.
В этом смысле цифровое право — это соединение неправовых регуляторов, которые в определенных сочетаниях дают правовое качество. Цифровая среда создает юридизм нового типа. Цифровое право формирует правовое качество в доселе непредметных для права сферах, прежде всего в технико-информационной и естественно-технической.
Именно поэтому вопрос классической юриспруденции — куда отнести цифровое право и есть ли такое вообще — объективным ходом развития естественных и технических наук лишается смысла. Нынешнее право уже не может навязать последним свои методы регулирования. Это объективный факт, который необходимо учитывать.
Тем не менее мы прежде всего должны задаваться именно классическими вопросами. Есть ли такая закономерная область правового регулирования, как классическое право в цифровой сфере? Имеется ли у этой сферы локализованное место в системе права? Может ли цифровое право рассматриваться как некое новое образование, рядоположенное с такими же спорными и нарождающимися нормативными массивами, как право медицинское, энергетическое, конкурентное, спортивное и т.д.?
Ответы на все эти вопросы будут скорее отрицательными. Цифровое право имеет иную юридическую природу. Это не отпочковывающиеся от материнского массива нормы; это не в чистом виде нормы права, как мы привыкли их понимать; это иной способ формирования самой юридической нормативности. Цифровое право — право-поведение, образ действий в принципиально иной регуляторной среде.
Система цифрового права определяется не предметом, не методом и даже не типом правового регулирования. Цифровое право формируется цифровыми трансакциями и выступает в этом смысле как социологическая реальность, чистое живое право.
Разница между цифровым и аналоговым правом в том, что классическое аналоговое право создает порядково меньший объем и пространство правовой нормативности в единицу времени. Впервые в истории права пространство и время выступили критериями правовой дихотомии.
Поэтому цифровое право — иная правовая организация, которая в настоящее время занимает локальные позиции в правовых отношениях, но потенциально — гораздо более емкая и мощная регулятивная система, чем право классическое. Цифровое право постепенно втягивает в себя из аналогового права значительное его пространство. Данный процесс не ведет к замещению аналогового права цифровым. Скорее всего, аналоговое, классическое право будет частью цифрового права, его важным позитивным элементом в сферах конституционного порядка, основополагающих прав человека, в сфере безопасности. Возможно, аналоговое право будет выполнять особую функцию визуализации цифрового права там, где это диктуется политической необходимостью. Но это тоже будет уже другое классическое право, во многом видоизменившее регулятивные инструменты.
В будущем, которое уже наступает, цифровое право готовит новое глобальное деление права: от частного и публичного к фундаментальному и прикладному праву. У фундаментального (чистого) права в целом сохранится нынешняя регулятивная инфраструктура, для которой будет характерна сегодняшняя симметрия источников, ведущих институтов, нацеленных на обеспечение жизненно важных функций человеческого общества.
В фундаментальном праве, как и сейчас, будут заданы ключевые этические параметры правового образа жизни человека.
В прикладном праве, основанном на закономерностях цифровой организации социальных связей, вероятнее иная система институционализации акторных взаимодействий.
Эта система рассчитана на непрерывное сопровождение бесчисленных правовых фактов, которые все более будут способны осуществляться в безбумажной форме. Именно такое прикладное право (термин условный) практически полностью займет объем правовой системы. Правовая система преобразуется структурно, сосредоточив фундаментальное право на узловых участках правового регулирования.
Можно прогнозировать некоторые параметры будущего правопорядка. Объем формальной правовой системы значительно уменьшится. Поменяется и ее архитектура — функционал юрисдикционных учреждений модифицируется в направлении фундаментирования массового прикладного права новой документарной природы. Прикладная правовая система, как часть правопорядка, уже сейчас соответствует природе массового правового сознания населения, которое живет, в принципе, в автономном режиме от формальных регуляторов и не стремится видеть в формальном праве часть своей повседневности.
Этот вековой раскол массового правового и официального осознания права не может быть преодолен в рамках классической правовой системы. Обыденное, повседневное право давно уже нуждается в максимальном упрощении и алгоритмизации. В различных частях официального правопорядка налицо тенденция к упрощению процессуальной формы. Однако в рамках классического правопорядка эта тенденция не может приобрести целостности и эффективной универсальности.
Цифровая же среда — именно то пространство, которое закономерно притягивает к себе массовое правосознание. Это та подспудно искомая альтернатива, которую создает нынешний правопорядок и к которой, вероятно, шло предшествующее развитие правового способа жизни людей.
Противоречия и конфликты, разрешенные в праве европейскими и североамериканской революциями XVII—XVIII вв., накоплены в невиданных масштабах в Новейшее время. Способ разрешения этих противоречий может дать не очередная социальная революция, а революция техники, если она сумеет приобрести революционное социальное значение.
Этот процесс не может быть безболезненным и бесконфликтным. На определенном этапе неизбежны коллизии и противоречия виртуального и классического правовых укладов. Цифровое право по мере открытия новых возможностей автоматизации человеческой жизни будет задавать действующему правопорядку серьезные дилеммы и антиномии.
Эти конфликты необходимо смягчать. Задача науки — прогностическая — выявление путей оптимального перехода к новой регуляторной основе цифрового права. Применительно к формальному праву таковой основой были и есть юридические дозволения, запреты и позитивные обязывания.
Сохранится ли эта основополагающая матрица в основе цифрового права? Резкая смена правовой парадигмы невозможна. Скорее всего, будет происходить врастание и борьба новых регуляторов со старыми, сохранение последних по форме с переменой сущности. Это — обычный путь зарождения новой юридической эпохи.
Сейчас развитие идет по вполне наблюдаемой линии нивелирования контрастных граней правового дозволения и запрета, создания моделей инструментов, не имеющих однозначных и абсолютных юридических номинаций. Будущее цифровое право будет лишено классической правовой гармонии императивных и диспозитивных методов, на сочетании которых строится современная система права.
Цифровой мир неуклонно расшатывает привычную дихотомию методов правового регулирования, с новой силой заставляет изобретать комплексные режимы воздействия, которым часто нет названия в понятийном аппарате правоведения. В итоге — освобождение от ограничений, которые устарели и сковывают творчество человека, сопровождая традиционное правовое регулирование.
Речь идет о движении к новой эпохе индивидуализации в праве. Не индивидуализации в смысле правового индивидуализма, а к такой правовой модели, которая делает индивидуальный правовой статус демократическим в глубоко правовом смысле — частью новых значительных социальных и технологических возможностей. В этом отношении индивидуализм цифровых трансакций выступает закономерным элементом коллективистского технологического и социального устройства общества.
Право может дать человеку новое качество жизни, новую свободу. Снять пределы римского права в его возможностях — означает создать радикально новое правовое регулирование. Пределы гибкости римского права поистине безграничны. Со времен Средневековья возрожденное римское право и иные западные и восточные правовые традиции образовали множество новых направлений и регуляторов. Традиционный правопорядок идет по пути бесчисленных комбинаций их исходных институтов, аналогий и ассимиляций. Но даже эти безграничные возможности остановились перед беспрецедентным творчеством человека, поставив в повестку дня проблему пересмотра классической правовой традиции.
Цифровое право может состояться только на основе отказа от предыдущей регуляторной практики. Оно сможет быть правом через уход от нормативов современного правового регулирования.
Сейчас кажется невероятной смена базовых моделей права. Договор, деликт, субъект, ответственность, юридическое лицо, правоотношение, письменный правоприменительный акт обладают колоссальной социальной обоснованностью и устойчивостью, близкой к вечности. Они продолжают определять логику имплементации новых технологий. Сейчас в этот фундаментальный ряд идут активные интервенции новой технологической реальности, порождая всё больший диссонанс в правовой системе.
Поэтому предстоит во многом заново определить понятия и категории права, связи его институтов, модели квазисубъектов, построить иную систему правовых взаимодействий, представительства применительно к новому правовому пространству и времени. Неизбежна смена воззрений на классическую теорию правонарушения, юридической ответственности, построение юрисдикционных структур.
Цифровое право не возникнет само по себе, как не возникло и само классическое право. Кто сыграет роль новых преторов и эдилов? Были ли преторы и иные магистраты юристами в нашем понимании? Были ли юристами римские жрецы, которые в легендарную эпоху владели тайной права? Скорее всего, создать новое цифровое право под силу людям, соединяющим знание правовой традиции со свободным технологическим мышлением. Римское право первоначально было набором преторских эдиктов и лишь впоследствии, в Средние века и Новое время, регенерировало свою теорию. Новое право проходит тот же путь.
Будущий правовой уклад возникает далеко не в структурах юридической корпорации. Площадки нового правового генезиса уже есть в бизнесе, академической среде и прикладных сферах человеческой деятельности — медицине, торговле, бизнес-технологиях, банковской сфере.
Важно теоретически осмыслить базовые элементы картины изменений, которые неуклонно разрушают действующую правовую парадигму. Необходимо концептуально сформулировать наши ожидания последствий диффузии цифрового права. Важно предупредить развитие цифрового права в непредсказуемые и асоциальные формы.
Речь идет об ограничении альтернатив в самом процессе цифровизации: ограничении не методами аналоговых правовых средств, а через стимулирование развития цифрового мира в актуальных правовых направлениях.
В теоретической плоскости возникает вопрос нового правового языка, который должен в известной мере вытеснить прежний.
Конечно, свое слово может сказать фундаментальная наука права, которая не должна быть озабочена сиюминутным правовым регулированием, на что ее постоянно сворачивают. Ведомства, играющие сейчас основную роль в создании нормативного цифрового порядка, делают важную работу, но в стратегическом отношении бесплодны, так как действуют в рамках уже известных моделей регулирования.
Необходимы большие структурные и методологические идеи в праве, которые были бы способны приводить к решению застарелых юридических проблем. Одной из таких идей является идея цифрового права — не как регулирование цифровых технологий, а как новая правовая методология правообразования и правореализации. Современному праву недостает сегмента, инвестирующего юридическую нормативность напрямую от человека к обществу. Праву остро необходима предметная сфера, которая по определению никогда не рассматривалась правовой — техника и технологии.
Господствующая модель юридического пространства — экономика, политика, управление, право — во многом себя исчерпала, привела к истончению собственно правовых идей, растворила право в чужой методологии. Симбиоз права и технологий способен создать новый тренд в правовом развитии. Мы остановились перед понятием нормы как правила, что не позволяет праву проникнуть в чуждые такому представлению о норме сферы жизнедеятельности человека. Норма — это не только индивидуальное или общее правило. Норма — это ситуация со многими элементами, включающая программные единицы, понятия скорости, контекстуальное и пространственности.
Профессиональную традицию права изменить очень сложно, если вообще возможно. От нее можно только отказаться, как уже не раз было в истории правового регулирования. Право как привилегия в свое время радикально сменилось правовым равенством; деление людей на свободных и рабов, освещенное римским правом и казавшееся естественным, ушло в историю. Нынешнее право, при всем его многообразии, также, по сути, оперирует достаточно ограниченным кругом общественных институтов.
Почему при стольких проблемах до сих пор не произошла революция права, не сменилась его эпоха? Необходимы акторы нового права и наличие реальных альтернатив. Смена эпохи возможна, когда акторами системной новизны станут огромные массы людей, самим своим бытом поставленные на роль не только субъектов правоотношений, но и правотворцев и правоприменителей.
Следует понять, что перспектива цифрового права вовсе не в необходимости адаптировать к повседневной правовой среде цифровые технологии. Перспектива цифрового права — в новых формах социального регулирования, переходе к иной модели социального и правового порядка. Эта перспектива меняет в целом постановку исследовательской проблемы: от поиска средств адаптации технологий — к созданию моделей правовой сферы, которая даст новые шансы человеку как социальному и биологическому виду. Перспектива — в возможностях стратегического применения правового метода в новой экономике, к новому эффективному государственному управлению, переустройству социальной сферы. Перспектива — в возможности создания новых юридических ценностей, во многом новой правовой культуры, в лоне которой исходные преимущества правовой ментальности, в том числе российской, получат наиболее естественное воплощение.
В мире накопилось много квазиправа: экономические нормативы, правила регуляторов, политическая воля. Все, что реализуется под государственным принуждением, практически рассматривается как право. Цифровое право призвано реструктуризировать именно этот аспект правовой системы, придать правовым отношениям подлинно аутентичный вид.
Право в целом — это право большинства и право меньшинства. Цифровое право дает возможность выбирать своеобразную юрисдикцию для жизни — так же, как мы выбираем цифровой или аналоговый звук, изображение, способ коммуникации.
Мир нуждается в новом праве, которое было бы максимально непохожим на существующее. Действующее право много сделало для человека, для раскрытия его творческих способностей, но оно не решило застарелых проблем отчуждения, неравенства, дискриминации, коррупции, неэффективности. Если не состоится цифровое право, в любом случае, мир будет искать альтернативу в радикально более жизнеспособной правовой культуре. Поэтому предчувствие миссии цифрового права связано отнюдь не только с цифровой революцией. Идеология виртуального правового мышления гораздо шире этой революции. Эта идеология вовсе не новая. Ее корни залегают в авангардном отказе от классического права начала XX в., когда советская Россия в попытке отказаться от буржуазного правосознания создала новую систему социального права.
Со времен всех великих социальных революций XVII, XVIII и XX вв. категории права в известной мере утратили новаторский регулятивный потенциал. Многие из них скомпрометированы последующей социальной практикой. Само понятие правового неуклонно формализуется. Как и в древние времена, право присвоено профессиональной корпорацией: социальная ответственность — юристами, права человека — политиками, суверенитет — государством и надгосударственными образованиями. Правовое регулирование переживает кризис, суть которого обозначил В. Д. Зорькин: «...Право, на которое мы все привыкли рассчитывать, теряет свой регулятивный потенциал, а правовые конструкции утрачивают былую прочность и надежность»[I].
Назревает санация и оздоровление правового образа жизни людей. Такую работу призвана выполнить значительно более независимая, массовая, демократическая правовая культура, не требующая непомерно затратного профессионального обслуживания.
Есть ли будущее у современного нам традиционного права? Право многообразно, его содержание и форма находятся в непрерывном движении. Традиционное право отражает объективные структуры правового мышления, которые заданы на психофизиологическом уровне. Понятие нормы как веления тесно связано с природой человеческого языка. Аналоговое право сохранится в человеческой культуре. В то же время в праве ничего заведомо и навечно не предопределено. Живой обыденный разговорный язык — естественная историческая основа права. Как ни парадоксально, этот, казалось бы, естественный для человека язык права до сих пор так и не стал близок основной массе людей, он приватизирован все более замыкающейся в себе профессиональной юридической корпорацией.
Массовое право изменит свой язык, который откроет доступ к праву большинству людей. Аналоговое право сохранится, но сохранится исключительно как профессиональный аутентичный код правового сознания, передающий ключевые стандарты правового сознания человечества.
Должно быть свободное соревнование аналоговой и цифровой правовых систем, на основе того, что людям более подойдет для тех или иных отношений. Вытеснение уже идет на основе конкретных нормативных фактов, создаваемых социальной практикой.
Современное право не исчезнет. Оно сформировало мышление юристов и коснулось сознания огромных масс людей. Современные правопорядки обладают мощной правовой гравитацией. Однако проблема не в путях интеграции цифрового права в действующую правовую систему, что возможно и необходимо как переходное ее состояние. Новое регулирование не остановится на встраивании и подражании. Природа цифрового права исходно иная, она не допускает воспроизводства в ином правовом оригинале. Это и драма, и одновременно значительная перспектива беспрецедентного прогресса новых правовых форм и источников.
Нивелирует ли цифровое право национальные правовые традиции? Цифровое право скорее изменит эти традиции, сохраняя их специфику. У каждого народа будет, вероятно, своя модель цифровизации правовой культуры. Как именно под влиянием технологий будет трансформироваться национальное правовое мышление — мы пока не знаем. Несомненно, у российского права сохранится присущая ему широкоформатная социально-правовая природа, которая сможет по-настоящему раскрыться именно в новой технологической среде. Российское право «переоткроет» себя, обретет новые правовые ценности. Именно в этом состоит шанс к его продолжению как самостоятельной регулятивной системы в современном мире.
Сегодняшние исследования влияния цифровой среды на систему права во многом основаны на аналоговом правовом мышлении, которое пока единственно возможно как в правовом регулировании, так и в подготовке юристов. Занимаясь, однако, текущими вопросами правовой цифровизации, важно строить правовой прогноз и пытаться увидеть горизонты.
БИБЛИОГРАФИЯ
- Зорькин В. Д. Право против хаоса. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Норма: Инфра-М, 2018. — 368 с.
REFERENCES
- Zorkin V. D. Pravo protiv khaosa [Law against Chaos], 2nd ed., rev. and suppl. Moscow, Norma: Infra-M PubL, 2018. 368 p. (In Russian)
[I] Зорькин В. Д. Право против хаоса. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2018. 368 с. С. 8.





