Общие и специальные навыки как компоненты человеческого капитала: новые вызовы для теории и практики образования
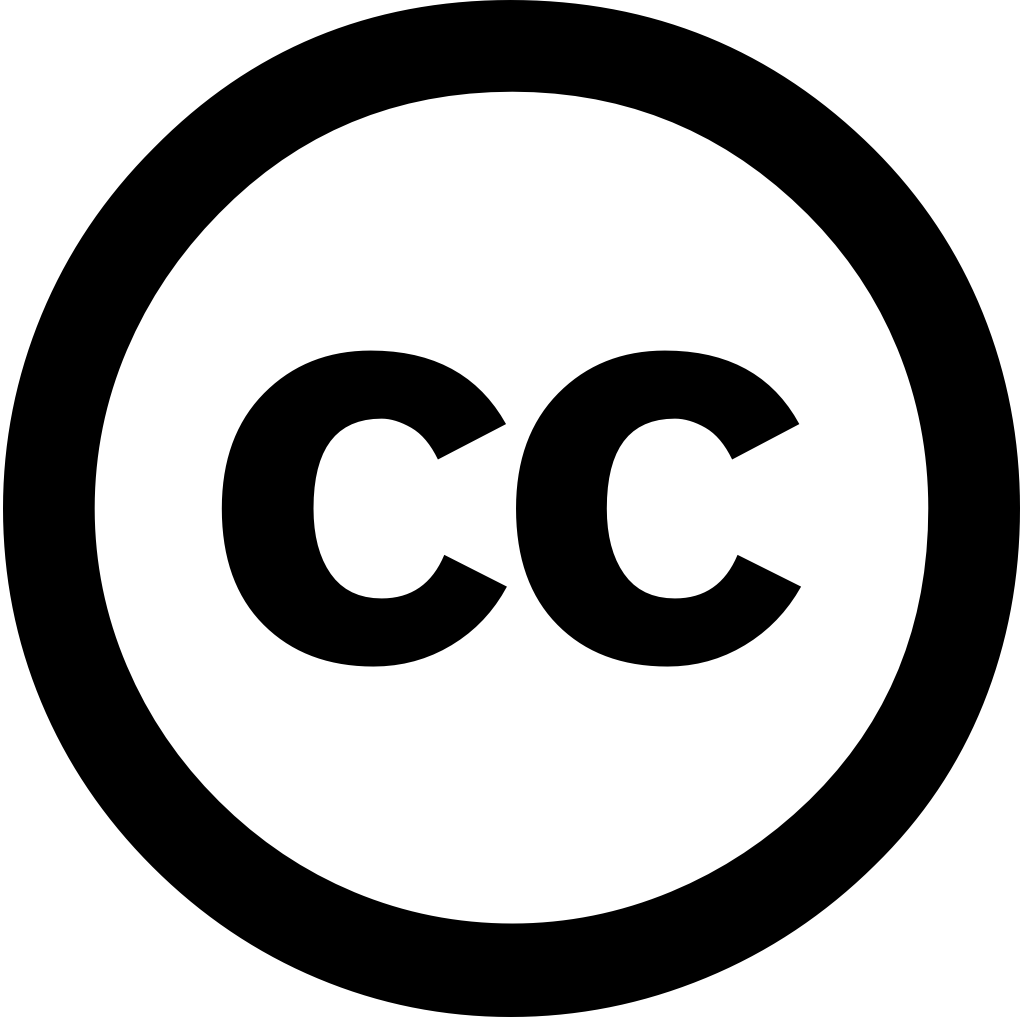

Published: Jan. 1, 2019
Latest article update: Sept. 9, 2022
Abstract
Хотя образовательная политика большинства развитых стран мира в последние десятилетия базируется на теории человеческого капитала, экспертные дискуссии зачастую не учитывают прогресса в данной теории. Начиная с 1970-х гг. исследователи последовательно уточняют и дополняют характеристики человеческого капитала и их вклад в личное благополучие индивида и в социально-экономическое развитие общества в целом. Отставание политики от уточненных представлений о человеческом капитале приводит к снижению глобальной роли образования в общественном развитии, в которое XXI в. привнес принципиально новые тренды. Перед системами образования по всему миру, включая Россию, встают беспрецедентно сложные вызовы, связанные с количественным ростом финансовых и временных затрат на образование в масштабах всего общества и снижением продуктивности на единицу таких затрат. Созданный образованием человеческий потенциал все хуже капитализируется: глобальный и национальный экономический рост замедляются. Как следствие, предпринимаются все новые попытки теоретически обосновать ненужность или маловажность образования для экономического роста и жизненного успеха отдельного человека. Пока эти попытки не возымели прямых последствий для образовательной политики, однако во многих странах они служат фоном при принятии бюджетных решений не в пользу образования. Образовательные системы необходимо существенно дополнять практиками, направленными на формирование ключевых элементов человеческого капитала. Наиболее перспективными в этом отношении могут оказаться те теоретические разработки, которые пока не стали частью мейнстрима в дискуссиях о человеческом капитале, но необходимы для понимания механизмов его формирования и роли в социально-экономическом прогрессе в краткосрочной и в долгосрочной перспективе.
Keywords
Рынки труда, профессиональные навыки, универсальные компетенции, образовательная политика, «мягкие» навыки, спрос на компетенции, предпринимательство, человеческий капитал
Хотя образовательная политика большинства развитых стран мира в последние десятилетия базируется на теории человеческого капитала, экспертные дискуссии зачастую не учитывают прогресса в данной теории. Начиная с 1970-х гг. исследователи последовательно уточняют и дополняют характеристики человеческого капитала и их вклад в личное благополучие индивида и в социально-экономическое развитие общества в целом. Отставание политики от уточненных представлений о человеческом капитале приводит к снижению глобальной роли образования в общественном развитии, в которое XXI в. привнес принципиально новые тренды. Перед системами образования по всему миру, включая Россию, встают беспрецедентно сложные вызовы, связанные с количественным ростом финансовых и временных затрат на образование в масштабах всего общества и снижением продуктивности на единицу таких затрат. Созданный образованием человеческий
потенциал все хуже капитализируется: глобальный и национальный экономический рост замедляются. Как следствие, предпринимаются все новые попытки теоретически обосновать ненужность или маловажность образования для экономического роста и жизненного успеха отдельного человека. Пока эти попытки не возымели прямых последствий для образовательной политики, однако во многих странах они служат фоном при принятии бюджетных решений не в пользу образования. Образовательные системы необходимо существенно дополнять практиками, направленными на формирование ключевых элементов человеческого капитала. Наиболее перспективными в этом отношении могут оказаться те теоретические разработки, которые пока не стали частью мейнстрима в дискуссиях о человеческом капитале, но необходимы для понимания механизмов его формирования и роли в социально-экономическом прогрессе в краткосрочной и в долгосрочной перспективе.
Связь между образованием и социально- экономическим развитием через призму человеческого капитала: исторический обзор
Тезис о том, что человек (а не только природные ресурсы, финансовый или физический капитал) выступает основной движущей силой социально-экономического развития, стал сегодня общим местом для значительной части экспертного и академического сообщества. Человеческий капитал включает знания, умения и установки, позволяющие человеку создавать доход и другие полезные эффекты для себя, работодателя и общества в целом, превосходящие первоначальные инвестиции и текущие затраты [Кузьминов, Фру мин, 2018]. Как и другие интерпретации и дефиниции [OECD, 2001; Tan, 2014; Becker, 1962; Капелюшников, 2012; Аникин, 2017; и др.], приведенное определение основано на представлении о капитале применительно к человеку не как о метафоре, а как о новом активе, который создает экономическую полезность, превышающую расходы на его развитие и поддержание (и, следовательно, является капиталом в строгом экономическом понимании этого слова).
В отличие от господствующей в академическом дискурсе двухуровневой рамки анализа экономического поведения (индивидуальный и агрегированный уровни), приведенное определение акцентирует внимание на трех уровнях инвестиций (и соответствующей отдачи) от человеческого капитала: индивидуальном, корпоративном и общественном. Причем неотчуждаемый от индивида — работника или учащегося — характер человеческого капитала (независимо от того, кто в него инвестирует) соседствует с большим разнообразием форм присвоения непосредственных продуктов труда и прочих эффектов человеческого капитала. Эти формы, называемые институтами, могут приводить как к относительно сбалансированному распределению, так и к существенным диспропорциям — например, в пользу корпорации (в эпоху ранней индустриализации [Rosenberg, Birdzell, 1986; Диденко, 2015]) или индивида (в случае с рынком труда для высококвалифицированных Il-специалистов сегодня).
Проблема человеческого капитала порождает то напряжение между традиционными теоретическими моделями неоклассического толка [Blaug 1992] и социально-экономической реальностью, которое критики порой используют как аргумент против этой концепции [Тап, 2014; Klees, 2016]. Однако корпорации как промежуточному звену между индивидом и обществом не всегда уделяют достаточное внимание в экономической картине мира. Институционалисты как изнутри экономической науки [North, 1990], так и со стороны социологии [Meyer, 2010] прилагают усилия для преодоления этой ситуации. Мы сосредоточимся на трансформациях, характеризующих каждый из трех уровней отдачи от человеческого капитала.
Вне зависимости от масштаба и перспективы рассмотрения, в центре понятия «человеческий капитал» лежит инвестиционная логика, поэтому анализ развития указанной теории и ее практического применения следует начать с небольшого исторического экскурса в эволюцию инвестиций в человеческий капитал, факторов и эффектов этого процесса. Во-первых, в отличие от существующих обзоров [Аникин, 2017; Sweetland, 1996; Goldin, 2016] в следующем разделе мы попробуем сознательно сфокусироваться не столько на теоретических моделях смены технологического уклада в XVIII- XX вв., сколько на данных об инвестициях (и соответствующем охвате образованием) и экономической отдаче от них. Во-вторых, мы ограничим рассмотрение инвестициями в образование как ключевой, но не единственной частью инвестиций в человеческий капитал (наряду, например, со здравоохранением и культурой).
Инвестиции в образование в исторической ретроспективе: предпосылки становления теории человеческого капитала
На протяжении последних полутора столетий не частные организации или индивидуальные потребители, а именно государства с их бюджетами были и остаются основными глобальными инвесторами в человеческий капитал, включая образование [Tanzi, Schuknecht, 2000]. В 1776 г. Адам Смит (Adam Smith) выдвинул концепцию «общественных благ» (public goods). К ним он отнес те блага, которые, имея огромную ценность для общества, столь дороги в производстве, что частная выгода от обладания ими индивидом или группой лиц не превышает расходов на их создание. Одним из очевидных примеров таких благ для Смита служило образование [Smith, 1937, р. 681].
В развитых странах массовое образование по меньшей мере с середины XVIII в. признавалось необходимым условием прогресса, обычно понимаемого как социально-экономическое и политическое развитие национальных государств [Soysal, Strang 1989; Meyer et al., 1992]. В Пруссии и Австрии первые указы об обязательном начальном образовании для отдельных категорий населения появились во второй половине XVIII в., а в Дании система государственного начального образования стала формироваться еще в 1721 г. [Zinkina et al., 2016]. В результате бурного развития аналогичных систем в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии к 1900 г. 86% детей школьного возраста получали начальное образование, в Северной Европе — 67, в Восточной Европе — 29, в мире в целом — 33% [Benavot, Riddle, 1988, р. 202].
Развитие систем образования в XIX в. лежало в русле передовых идей эпохи. Эмиль Дюркгейм (Ётііе Dürkheim) видел в образовании залог общественной солидарности в условиях глубокого разделения труда [Dürkheim, 2006]. Макс Вебер (Мах Weber) полагал образование ключевой предпосылкой к формированию общества современного типа, организованного на рациональных началах [Myers, 2004]. Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill) признавал, что только с помощью формального образования возможно воспитать просвещенное общество, способное эффективно пользоваться демократическими институтами [Macleod, 2016]. Родоначальник современной экономики Альфред Маршалл (Alfred Marshall) критиковал своих предшественников за то, что они «недостаточное внимани уделяли человеку как важной части средств производства, подобно любой другой форме капитала» [Marshall, 1890, р. 295].
Максимальных масштабов рост систем образования достиг в XX в. Если в 1870 г. не было ни одной крупной развитой страны мира, в которой государственные расходы на образование превышали бы 1.5% ВВП (Великобритания — 0.1%, Франция — 0.3, Германия — 1.3%) [Roser, Ortiz-Ospina, 2019а], то к 1950-м гг. по этому показателю большинство из них преодолели рубеж в 2%, а к 2017 г. средний показатель стран Европейского Союза составлял около 5% (России — 3.6% ВВП) [Кузьминов, Фру мин, 2018].
Благодаря инвестициям в образование доля грамотного населения мира выросла с 20% в 1880 г. до 85% — в 2014 г. Средняя продолжительность обучения в развитых странах за то же время увеличилась с менее чем 3 до более 10 лет [Roser, Ortiz-Ospina, 2019b].
С 1960-х гг. государственные инвестиции развитых стран в формальное образование растут особенно высокими темпами (с 2-3% ВВП в 1960 г. до 4-5% — в 1980 г. [Roser, Ortiz-Ospina, 2019b]) наряду с долей в ВВП (средний показатель для стран с высоким доходом в 1964 г. — 5.2% роста ВВП в год, в 1973 г. — 5.4%). Сопоставимыми были темпы роста и в странах со средним уровнем дохода [World Bank, 2019].
Если в довоенную эпоху подавляющее большинство развитых стран обеспечили всеобщий охват школьным образованием [Meyer et al., 1992], то с 1960-х гг. наблюдалось беспрецедентное расширение систем высшего образования [Cantwell et al., 2018]. В 1940 г. из 10 тыс. жителей планеты не более 20 человек были студентами вуза, к 1960 г. таковых было почти 40, а к 2000 г. — более 160 [Schofer, Meyer, 2005].
На рубеже 1950-1960-х гг. Гэри Беккер (Gary Becker) [Becker, 1962], Теодор Шульц (Theodore Schultz) [Schultz, 1960, 1961], Джейкоб Минцер (Jacob Mincer) [Mincer, 1962] и Эдвард Денисон (Edward Denison) [Denison, 1962] заложили основы теории человеческого капитала. Она представляла собой эмпирически обоснованную целостную концептуальную модель, послужившую теоретическим фундаментом мировой практики наращивания инвестиций в образование, показав, каким именно образом оно способствует экономическому развитию.
Были и другие причины инвестировать в развитие образования. Среди них — обеспечение гражданской грамотности населения как залога устойчивости политической системы, поддержка социальной мобильности, строительство национального государства и просто забота общества о детях и молодежи [Кузьминов, Фрумин, 2018; Meyer et al., 1992; Carnoy et al., 2013]. Без учета этих факторов невозможно адекватно объяснить взрывной рост охвата образованием (включая послешкольное) на протяжении последних столетий. Рассмотрим роль образования в экономическом развитии как ключевое основание для инвестиций в него, в том числе в современных российских условиях, характеризующихся относительным дефицитом ресурсов [Кузьминов, Фрумин, 2018].
Быстрый рост мирового ВВП наряду с расширением систем образования в третьей четверти XX в. создал уникальную историческую ситуацию, когда общество не только наглядно убеждалось в «эффекте образования для экономики» (хотя рост ВВП в 1960-1970-е гг. создавали когорты выпускников предыдущих поколений), но и располагало ресурсами для новых инвестиций в эту сферу благодаря беспрецедентному экономическому росту [Marginson, 2017; Manyika et al., 2015].
По данным McKinsey, большинство стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) удвоили или утроили расходы на образование в реальных ценах между 1970 и 1994 гг. [Barber et al., 2011, р. 20]. Вместе с тем образовательные результаты (по критериям ОЭСР) в большом числе случаев не выросли или даже снизились [Barber et al., 2011]. Обнаружилось, что низкие образовательные результаты могут встречаться даже в тех странах, которые существенно увеличили финансирование образования. Однако тренда это не остановило: с 2000 по 2008 г. средние расходы на одного учащегося в странах ОЭСР выросли на 34% [Jensen, 2012].
На множестве примеров было показано, что далеко не все страны, активно инвестирующие в системы образования, на выходе получают устойчиво высокие темпы экономического роста [Klees, 2016; Tan, 2014]. Как следствие, возникли сомнения в важности образования как драйвера этого процесса. В экономике стали стремительно набирать популярность высказанные еще в 1970-е гг. идеи о ведущей роли институтов, для которых качественная система образования, как и экономический рост в целом, служит продуктом, результатом, а не движущей силой [Acemoglu et al., 2014].
Концепция «ловушки среднего дохода» (middle income trap) характеризует ситуацию исчерпания страной факторов роста (массовой индустриализации и потока инвестиций, привлеченных наличием дешевой рабочей силы с минимально необходимым уровнем образования) и неспособности конкурировать с более развитыми странами в высокотехнологичных отраслях, обеспечивающих более высокий доход. По данным Всемирного банка, лишь 13 стран из 101, отнесенных в 1960 г. к категории «со средним уровнем дохода», к 2008 г. переместились в сегмент «высокого дохода» \ Agenor et аі., 2012].
Дискуссию о роли образования в экономическом росте подогрела концепция «микро/макро парадокса» [Pritchett, 2001]. Она описывает ситуацию снижения ключевых макроэкономических показателей страны на фоне повышения охвата образованием и индивидуальной отдачи от него. Так, в Перу, Иордании, Мексике и Венесуэле рост образованности населения и размеров премии на образование высоких уровней сопровождались торможением экономического роста или даже отрицательной макроэкономической динамикой, включая производительность труда [Tan, 2014]. Обусловлено это было, в частности, тем, что образованные выпускники предпочитали рабочие места, связанные не столько с прямым созданием новой стоимости (например, инженеров), сколько с эффективным извлечением ренты из уже существующих активов (например, юристов). Свежие данные по Китаю показывают, что перед главным двигателем мировой экономики стоит сходная проблема [Yao, 2019].
В похожем положении находится сегодня и Россия перед лицом проблемы «недокапитализированного человеческого потенциала» [Кузьминов, Фру мин, 2018]. Уровень индивидуальной премии (отдачи) от высшего образования в отечественных реалиях выше, чем во многих развитых странах (около 60% [Кузьминов, Фру мин, 2018, с. 97] против 20 — для Швеции, 56 — для Великобритании, 56% (в среднем) — для стран Евросоюза, одновременно входящих в ОЭСР1 (Подробнее см.: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_EARNINGS, дата обращения 25.05.2019.)). По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), Россия также входит в пятерку мировых лидеров с точки зрения формального охвата образованием. Вместе с тем страна занимает лишь 42-е место по «использованию на рабочем месте эффективных трудовых практик» и 89-е — по «доступности для экономики квалифицированных кадров» [WEF, 2017].
Таким образом, Россию наряду с десятками других стран можно признать жертвой «ловушки среднего дохода»: расширение охвата образованием здесь не приводит к ожидаемому росту совокупной производительности труда.
Глобальный кризис еще больше подорвал возможности государств инвестировать в образование и не повысил отдачу от него. По данным Всемирного банка о влиянии образования на заработную плату, рассчитанном с помощью минцеровского уравнения, этот показатель находится на стабильном уровне на протяжении последних десятилетий [Psacharopoulos, Patrinos, 2018]. На этом фоне ужесточилась критика теории человеческого капитала, сопровождаемая попытками объявить ее игнорирующей структурные и институциональные проблемы экономики и призывами полностью от нее отказаться [Klees, 2016; Tan, 2014].
Одна из наиболее очевидных и фундаментальных проблем образования в современном мире — рост стоимости. В среднем в колледжах США он превысил 170% за период с 1997 по 2017 г., по всей системе национального образования — 150% [Ritchie, Roser, 2019]. Ни один другой сектор экономики страны не испытал такого роста стоимости товаров или услуг. Даже в здравоохранении этот показатель составил лишь около 100% за аналогичный период [Ritchie, Roser, 2019]. В сфере образования такой феномен может свидетельствовать о низких темпах роста производительности труда [Baumöl, 2012] и серьезном кризисе эффективности национальной экономики в целом. По иронии, система образования рассматривается в качестве драйвера роста производительности труда в рамках теории человеческого капитала, эмпирически подтвержденной именно на данных первых двух третей XX в. в США.
В дискуссиях о связи между образованием и экономическим ростом упускается из виду, что развитие образовательных систем в большинстве стран мира, включая Россию, уже в 1980-х гг. разошлось с классической теорией человеческого капитала, подчеркивавшей важность не только формальных (типа количества лет обучения), но и содержательных характеристик, например способности действовать нерутинно.
Переход от теории к практике развития человеческого капитала отчасти затруднен верификацией концептуальных построений. В межстрановых эмпирических сопоставлениях получило распространение узкое толкование термина, при котором зависимой переменной выступает коэффициент отдачи от образования на индивидуальном уровне, а независимой — количество лет обучения [Psacharopoulos, Patrinos, 2018]. Очевидное преимущество такого подхода заключается в том, что он позволяет расширить круг анализируемых стран: данные о сроке обучения и заработной плате, как правило, доступнее любых других. Вместе с тем его недостаток состоит в невозможности прибегнуть к иным, более тонким подходам к оценке как самого человеческого капитала, так и его эффектов на макроуровне, включая показатели ВВП. Между тем именно вклад образования в рост экономики, рассчитанный через ВВП, первоначально был в центре внимания исследователей. Так, в 1960-х гг. Денисон показал, что более 70% ВВП США создается благодаря образованию [Denison, 1962, 1966]. Авторы большинства последующих исследований отдавали предпочтение измерению отдачи от образования на индивидуальном уровне в зависимости от различных факторов (длительности обучения, формального уровня образования, показателей по итогам тестов и т. п.) [Тап, 2014; Klees, 2016]. Тем не менее эффекты образования в отношении совокупной производительности остаются предметом исследований и сегодня [Lange, Topel, 2006]. Важное место человеческий капитал занимает в модели «эндогенного роста» (endogenous growth) Пола Ромера (Paul Romer) [Romer, 1990а, 1990b].
Подчеркнем, что применение ведущими экспертными центрами узкого подхода к оценке роли образования в экономике, ограничивающегося данными об охвате различными его уровнями, не исключает использования качественных индикаторов (например, когнитивных и некогнитивных навыков населения [Lange et al., 2018]). Вместе с тем в отечественной и зарубежной практике этим аспектам уделяют явно недостаточное внимание: качество образования, даже высшего, нередко продолжают оценивать в терминах охвата, а эффекты рассчитывают преимущественно на индивидуальном уровне. С одной стороны, при таком подходе могут быть достигнуты ценные результаты. Так, по данным метаанализа сотен отдельных исследований, который провели специалисты Всемирного банка [Psacharopoulos, Patrinos, 2018], индивидуальная отдача от инвестиций в образование в последние десятилетия не снижается и составляет около 9% на один год обучения (в среднем по всем странам, вошедшим в выборку, и по всем уровням образовательной системы за последние 50 лет). С другой стороны, множество содержательных вопросов остаются за рамками внимания исследователей, а именно: какие компоненты человеческого капитала и каким образом порождают благополучие на индивидуальном, корпоративном и национальном уровнях?
В дискуссии об образовательной политике мы предлагаем опираться на более комплексное рассмотрение человеческого капитала.
Во-первых, необходим полноценный учет тех его элементов, которые в научной литературе последних десятилетий были признаны ключевыми для определения состояния образовательной сферы. Например, когнитивные навыки (cognitive skills), отраженные в мониторинге PISA (Programme for International Student Assessment) [Hanushek, Woessmann, 2010], универсальные компетентности (generic skills), значение которых нашло признание в конце XX в. [Levy, Murnane, 2004], или некогнитивные способности (non-cognitive skills) [Kautz et al., 2014], чье влияние на индивидуальный успех доказано десятками исследований. Попытки всестороннего изучения человеческого капитала предпринимаются и в России, но, как правило, без непосредственной связи с образовательной политикой [Гимпельсон, 2018]. К сожалению, экспертные дискуссии нередко ограничиваются ритуальным упоминанием PISA и демонстрируют непонимание участниками глубинных противоречий между традиционными для российской школы формами обучения (упор на запоминание или освоение теоретических моделей без полноценного применения на практике) и теми подходами ОЭСР, которые воплощены в мониторинге PISA (практико-ориентированность в сочетании с поддержкой интереса и мотивации самого учащегося).
Во-вторых, серьезного внимания заслуживают те изменения социально-экономического характера (вызванные, в частности, технологическим прогрессом), которые актуализируют другие компоненты человеческого капитала, прежде остававшиеся на периферии научного мейнстрима. Речь идет о характеристиках работника, приобретающих особое значение для современной экономики в ситуации радикального изменения ее структуры и принципиальной трансформации отношений между индивидом, его рабочим местом, технологиями и работодателем. К таким характеристикам можно отности «способность справляться с ситуацией неопределенности», предложенную Шульцем еще в 1975 г. [Schultz, 1975], но по сей день не нашедшую отражения в дискуссиях об образовании.
Трансформация представлений о человеческом капитале в дискуссиях второй половины XX — начала XXI в.
Беккер, Шульц и Денисон показали, что если к традиционным физическому капиталу и количеству труда добавить индикатор человеческого капитала (некий аналог качества труда), то полученная модель хорошо объясняет подъем экономики США и некоторых других развитых стран в середине XX в. [Becker, 2009].
Следует учитывать, что в 1950-1960-е гг., когда основатели теории человеческого капитала занимались сбором эмпирических данных, главная доступная им информация касалась формального охвата образованием. Объективные стандартизированные исследования результатов обучения как индикаторов качества образования не получили в то время широкого признания ни на национальном, ни на международном уровне. Первые национальные репрезентативные тесты появились только в 1963 г., а их выборка была крайне ограниченной [Kamens, 2015, р. 421].
Авторы теории принимали формально фиксируемый уровень образования за реальную совокупность полезных для экономики знаний и навыков, значительная часть которых, созданная в системе образования (например, базовая грамотность, навыки счета и письма), повышает индивидуальную производительность на всех рабочих местах. Этот компонент получил название «общий человеческий капитал». В случае «специфического человеческого капитала» речь идет о навыках, востребованных конкретной должностью и приобретаемых в ходе узкоспециального обучения — не только формального, но и на рабочем месте, а также производного от стажа трудовой деятельности. Уравнение Минцера, в котором заработная плата выступает функцией от образования и опыта работы, стало основным инструментом оценки окупаемости инвестиций в человеческий капитал, причем придающим большую значимость специфическому человеческому капиталу в сравнении с общим: логарифм зарплаты предстает суммой линейной функции количества лет обучения и квадратичной функции трудового стажа [Mincer, 1974; Psacharopoulos, Patrinos, 2018].
Примерно до 1990-х гг. в практической образовательной политике, опиравшейся на теорию человеческого капитала, правительства ориентировались на рост формальных показателей. Параллельно шли дискуссии об индикаторах качества человеческого капитала, отвечающих конкретным потребностям экономики. Так, Марк Блауг (Mark Blaug) поставил вопрос о том, какие именно механизмы и элементы человеческого капитала стоят за эмпирически установленной связью между образованием и индивидуальными доходами [Blaug 1972]: специальные прикладные навыки, которые дает образование; врожденные психологические характеристики, носителей которых система лишь отбирает; или же классовая принадлежность, обеспечивающая учащимся более высокие шансы на успех в период обучения и в дальнейшей карьере? По мнению автора, в условиях конкуренции между различными механизмами развития самой системы образования и рынка труда все три варианта ответа оказываются валидными и не противоречащими друг другу. Даже если рынок труда дает преимущества выходцам из обеспеченных семей и обладателям особых врожденных талантов, то система образования сохраняет ключевую роль с точки зрения как селекции, так и дополнительных полезных умений, которыми школа или университет обогащают человеческий капитал учащегося.
Теория человеческого капитала, прямо увязывающая образование с рынком труда, начиная с 1970-х гг. актуализировала проблему «трудоустраиваемое™» (employability), обсуждавшуюся еще в начале XX в. [Guilbert et al., 2016; Gazier, 1998]. В тот ранний период исследователей и практиков образования в основном интересовало его совокупное влияние на дальнейшее трудоустройство. Трудоустраиваемость понималась как соответствие качеств выпускника конкретным запросам рынка труда и не проблематизировалась с других точек зрения [Kroll, 1976]. Однако в последние годы некоторые исследователи прямо ставят вопрос о необходимости целенаправленной поддержки учебными программами трудоустраиваемое™ как отдельного навыка или группы навыков, не сводимых к простым предметным умениям, а потому требующих особых усилий [Yorke, Knight, 2006; Guilbert et al., 2016].
Несмотря на критику теории человеческого капитала, эмпирические исследования в развитых [Goolsbee et al., 2019] ив развивающихся [Yao, 2019] странах подтверждают ее базовые гипотезы о положительном эффекте формального образования для перспектив индивида на рынке труда с точки зрения как гарантий трудоустройства, так и заработной платы.
В этих условиях актуальной и целесообразной задачей предстает расширение охвата образованием, прежде всего третичным. Рост этого сегмента, по оценкам экспертов Британского совета (British Council), в текущем десятилетии составлял в среднем 1.4% в год [British Council, 2012], т. е. численность студентов колледжей и вузов увеличивается на 21 млн человек ежегодно. Дополнительный год обучения на индивидуальном уровне дает в среднем кратно большую отдачу, чем альтернативные виды инвестиций (например, акции или недвижимость) [Psacharopoulos, Patrinos, 2018]. И все же торможение экономического роста на глобальном и большинстве национальных уровней, несмотря на высокие показатели отдачи от образования для индивидов, остается главной проблемой теории человеческого капитала, по мнению ее критиков [Klees, 2016].
Проблема соответствия образования и рынка труда: позиции и навыки
Распространенным объяснением низкой отдачи от формального образования для экономического роста служит дисбаланс, или «мисмэтч» (mismatch — букв, «несоответствие»), между образованием и рынком труда как в России [Рощин, Рудаков, 2015], так и за рубежом [Caroleo, Pastore, 2017].
В частности, более 20% приема в отечественные вузы приходится сегодня на инженерные специальности (соответствующий сегмент приема растет с 2014 г. [Клячко, 2017]), тогда как рынок труда не предлагает адекватного числа рабочих мест, востребующих соответствующие специальные навыки (если допустить, что все выпускники-инженеры ими действительно обладают) [Гимпелъсон, 2016]. Более того, в отсутствие экономического роста автоматизация производства в высокотехнологичных секторах экономики России ведет к существенному снижению численности занятых — до 20% по отдельным направлениям за период с 2005 по 2016 г. [Гимпелъсон, 2016]. В результате выпускник-инженер нередко вынужден работать водителем, продавцом или даже охранником (уровень занятости в розничной торговле вырос в 2.4 раза за тот же период [Гимпелъсон, 2016]).
Таким образом, массовизация инженерного образования для большинства учащихся оборачивается неэффективным расходованием своего времени, а для государства — средств. Система подготовки кадров высшей квалификации фундаментально разбалансирована с рынком труда и запросами работодателей — даже в тех относительно редких случаях, когда эти запросы формируются. В высокопроизводительном сегменте промышленности по-прежнему не хватает кадров (в том числе инженерного профиля) [Самофалова, 2016], что отражено в упомянутом докладе ВЭФ, где Россия занимает 89-е место по показателю доступности высококвалифицированных кадров [WEF, 2017].
Однако «мисмэтч» касается не только «позиций» на рынке труда и связанных с ними конкретных профессий, но и более широко востребованных навыков [McGuinness et al., 2018]. Это означает, что проблема лежит в плоскости не только специфического, но и общего человеческого капитала, т. е. тех навыков, которые применимы на различных рабочих местах и даже в разных отраслях. В мировом контексте развития систем высшего образования проблема «мисмэтча» навыков стоит не менее остро, чем проблема «мисмэтча» профессий. Как показало обзорное исследование американского рынка труда, затруднения для работодателей создает недостаток у работников не столько узкопрофессиональных (hard skills), сколько «мягких» навыков (soft skills), связанных с общими установками, отношением к трудовым обязанностям и т. п. [Handel, 2003]. Другое исследование показало, что изменение спроса на навыки широкого профиля на американском рынке труда с начала XXI в. служит фактором, частично объясняющим снижение восходящей трудовой мобильности среди лиц с высоким уровнем образования [Beaudry et al., 2016]. Эти и другие выводы противоречат традиционным представлениям о преимуществе узких, специфических профессиональных навыков (и связанных с ними опыта работы и образования) для успеха на современном рынке труда.
На этот запрос системы образования отреагировали наращиванием доли обучающихся по направлениям гуманитарных наук и педагогики (от 19 до 24% студентов бакалавриата в Норвегии, Франции, Великобритании, Германии и всего 12% — в России [Клячко, 2017, с. 24]). Другой формой ответа на вызов, связанный с ростом спроса на общие навыки, а не только и не столько узкие, востребованные на конкретных рабочих местах, стало распространение в новых университетах классического формата высшего образования — liberal arts. Как показывают исследования [Telling 2018], особо привлекательным этот формат находит молодежь развитых стран в силу доступа к широкому спектру профессиональных траекторий, который он открывает. Проблемы подготовки к «умирающим» или невостребованным специальностям перед студентами liberal arts в принципе не стоит, что повышает востребованность такого образования [Telling, 2018] на фоне роста сомнений в эффективности традиционных моделей массовой высшей школы.
Дефицит общего человеческого капитала отразился также в широком внедрении элементов предпринимательского образования, включая школьный и третичный уровни. Наибольшее распространение эта практика получила среди стран — лидеров в построении инновационной экономики. Так, в Финляндии [NAE, 2014] и в Британской Колумбии (Канада) [Government of British Columbia, n.d.] предпринимательский компонент интегрирован непосредственно в программу курса «Технологии». Парадоксальным и необъяснимым в рамках традиционных представлений о технологическом образовании образом предпринимательство все глубже проникает в третичный сектор, который согласно классическому подходу нацелен на развитие именно специфического человеческого капитала, т. е. узкопрофессиональных навыков. Особенно наглядно эта тенденция проявляется в странах и регионах, находящихся в авангарде технологического прогресса. Например, интеллектуальный центр Кремниевой долины — Стэнфордский университет (Stanford University) — за последние 20 лет значительно нарастил предпринимательски ориентированные образовательные программы, включая технические и компьютерные дисциплины. По данным массового опроса за 2011 г., около трети выпускников Стэнфорда запустили собственный бизнес, еще примерно столько же имеют опыт работы со стартапами. Более половины выпускников, ставших предпринимателями, называют предпринимательский дух главным мотивом выбора Стэнфорда местом учебы. В целом его выпускники основали почти 40 тыс. компаний и создали более 5 млн рабочих мест, которые ежегодно генерируют прибыль в размере 2.7 трлн долл. [Eesley, Miller, 2018].
Третичный сектор отечественного образования также демонстрирует отчетливую тенденцию к обновлению, однако вклад предпринимательского образования в экономику остается скромным (в том числе с точки зрения рыночной эффективности созданных на базе университетов предприятий [Карпов, 2018]). Если вокруг Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) каждый год образуются более 150 новых компаний, то за период 2009-2015 гг. в 24 из 40 ведущих российских вузов число созданных малых инновационных предприятий не превышает 10 [Карпов, 2018]. И все же положительный эффект профильного образования для развития предпринимательства для нашей страны доказан эмпирически [Духон и др., 2018].
Сохраняется неопределенность в вопросе о том, какие именно результаты предпринимательского образования стимулируют рост: конкретные «жесткие» навыки бизнес-администрирования, «мягкие» навыки лидерства и кооперации или более широкая креативная и инновационная культура? Развивая идею Блауга, можно предположить, что речь идет о комплексном (при всей разнонаправленности таких, например, курсов, как предпринимательство в области компьютерных наук, социальное или корпоративное предпринимательство и т. п.) влиянии программ, ориентированных на развитие личной инициативы и навыков ее капитализации. Эти универсальные компетенции оказываются полезными на самых разных функциональных позициях в системе разделения труда, в различных структурных условиях и культурных контекстах. Иными словами, речь идет о до конца не изученном элементе общего человеческого капитала.
Современные исследования в области человеческого капитала в поддержку доказательной образовательной политики
Реализация доказательной политики, направленной на формирование человеческого капитала на национальном уровне, не исчерпывается простой констатацией разрыва между ожиданиями рынка труда и системой образования, будь то в направлениях подготовки или в характере усваиваемых навыков. Для выработки эффективных инструментов образовательной политики требуется понимание, с одной стороны, ключевых и конкретных компонентов человеческого капитала, а с другой — тех условий и механизмов, которые позволят продуктивно реализовать эти компоненты на практике. В противном случае неизбежен рост «некапитализиро- ванного» человеческого потенциала — людей с набором полезных навыков, не включенных в экономику в полной мере, поскольку они не находят себе места на рынке труда или не обладают теми компетенциями, которые давали бы существенно большую отдачу, как личную, так и для общества в целом.
Начиная с 1980-х гг. многие исследователи прилагали усилия к концептуализации конкретных компонентов человеческого капитала. Можно выделить три направления этих исследований, напрямую связанные с появлением новых эмпирических данных. Первое направление касается предметных (профессиональных, дисциплинарных) когнитивных навыков, второе фокусируется на изучении некогнитивных навыков и личностных черт, третье анализирует спрос работодателей на так называемые универсальные (ключевые, базовые) компетентности, которые включают как когнитивные, так и некогнитивные элементы.
Исследования «традиционных» когнитивных навыков
Стандартизированные тесты знаний и навыков появились в начале XX в. и стали активно применяться в 1930-е гг., но использовались в основном для отбора студентов или рекрутирования солдат [Gibby, Zickar, 2008]. Национальные стандартизированные инструменты оценки результатов образовательной деятельности, применяемые не только для селекции человеческих ресурсов, но и для исследований, получили широкое распространение лишь во второй половине века. С 1980-х гг. стали доступны результаты массовых международных репрезентативных мониторингов качества образования [Kamens, 2015], оказавшие существенное влияние на развитие теории человеческого капитала.
Соотнося результаты этих мониторингов с экономической статистикой, Эрик Ханушек (Erik Hanushek) в конце 1980-х гг. выдвинул тезис о том, что на экономическое развитие на макроуровне влияют не столько увеличение срока обучения и формальный статус дипломов, сколько рост качества человеческого капитала, выраженный в развитии когнитивных умений [Hanushek, 1986]. Сегодня этот тезис подтверждается масштабными сравнительными исследованиями Всемирного банка [Lange et al., 2018].
Для оценки качества образования Ханушек опирался на тот набор характеристик, который был доступен для анализа на национальном уровне, а потом и для международных сравнений. Учитывая традиционный дисциплинарный характер обучения практически во всех странах мира, исследователи использовали в качестве индикаторов когнитивных навыков результаты учащихся в международных тестах TIMSS и PISA, прежде всего по математике и естественным наукам [Hanushek, Woessmann, 2007].
Ханушек с коллегами продемонстрировали высокую объясняющую силу учебных результатов, отраженных в международных мониторингах качества образования, применительно к последующему экономическому росту. Во многом благодаря этому такие авторитетные организации, как Всемирный банк [Lange et al., 2018], стали уделять особое внимание когнитивным навыкам, которые можно условно определить как способность обрабатывать информацию (в текстовом или числовом выражении) и в дальнейшем принимать решения (решать задачи) с помощью логического мышления и создания новых идей [Hanushek, Woessmann, 2008].
Однако в опубликованном в 2017 г. исследовании Хикару Коматсу (Hikaru Komatsu) и Джереми Реппли (Jeremy Rappleye) была поставлена под сомнение актуальность в XXI в. тезиса Ханушека о высокой объясняющей силе результатов предметных тестов по отношению к экономическому росту [Komatsu, Rappleye, 2017а]. Авторы показали, что если для последних десятилетий прошлого века объясняющая сила (по критерию «Р-квадрат») оставалась высокой (>35%), то в нынешнем веке она резко снизилась (<20%). Причина такого эффекта (если опустить аргументы самих Коматсу и Реппли) может состоять в том, что подобные тесты не отражают ряда значимых для современной экономики компонентов человеческого капитала. Кроме того, между мониторингами TIMSS и PISA имеются важные различия, которые необходимо учитывать. Если первый изначально задумывался и всегда оставался инструментом измерения качества усвоения предметных школьных знаний, то второй претендует по меньшей мере на анализ того, как знания применяются на практике (пусть и в тестовом формате). Одно из возможных объяснений открытия Коматсу и Реппли, таким образом, может состоять в том, что TIMSS как узкопредметное исследование не выявляет значимые в XXI веке «общие навыки» как элементы человеческого капитала, a PISA при всех ограничениях все же частично решает эту задачу. Причем по мере своего развития PISA все дальше продвигается в учете универсальных компетенций, хотя и сохраняет фокус на предметных когнитивных навыках.
В современном исследовательском сообществе нет консенсуса по поводу роли международных тестовых показателей качества образования в объяснении экономического роста. По мнению Дэвида Каменса (David Kamens) [Kamens, 2015], связь между результатами учащихся в тестах и последующим ростом экономики усилилась после 1990 г. благодаря расширению числа стран — участниц тестирования и увеличению выборки опрошенных внутри них. В свою очередь Джон Мейер (John Meyer) и Франсиско Рамирес (Francisco Ramirez) с коллегами показали незначительную связь результатов тестов с национальным экономическим ростом, и то лишь при условии включения в исследования быстрорастущих азиатских стран [Ramirez et al., 2006]. Впрочем, отсутствие консенсуса в этом вопросе не означает, что когнитивные навыки не имеют значения для экономического роста (почти наверняка имеют, и немалое), но лишь указывает, что вклад в него со стороны образования не исчерпывается когнитивной составляющей человеческого капитала.
«Текучий» интеллект и черты личности как некогнитивные навыки
С точки зрения Джеймса Хекмана (James Heckman) и Тима Каутца (Tim Kautz) с коллегами, тестирование достижений, на которое в том числе нацелена PISA,
...неадекватно отражает некогнитивные навыки, такие как настойчивость, сознательность, самоконтроль, доверие, внимание, самооценка, самоэффективность (selfefficiency), устойчивость к сопротивлению, открытость к новому опыту, симпатия... которые ценятся на рынке труда, в школе и в обществе в целом [Kautz et al., 2014, р. 2].
Некогнитивные навыки авторы рассматривают не столько как врожденные черты личности, сколько как тренируемые умения, тогда как традиционные тесты, включая PISA, фокусируются лишь на одной стороне интеллекта — той, которую в специальной литературе называют «кристаллизованным интеллектом» (crystallized intelligence), т. е. уже усвоенным знанием. «Текучий», или «жидкий» (fluid), интеллект не поддается измерению с помощью стандартных тестов, поскольку для этого требуется оценка обучаемости человека, а не применения им уже имеющегося знания на практике [Kautz et al., 2014, р. 7].
На материале многочисленных исследований, проведенных в основном в последней четверти XX в. в США, Хекман с коллегами установили, что в «тестах достижений» (т. е. на когнитивные способности) результаты подростков объясняют лишь 17% различий между доходами во взрослой жизни [Kautz et al., 2014, р. 2]. Если же брать исключительно объяснительную силу некогда очень популярных тестов на IQ, то она составляет всего 7% [Heckman, Kautz, 2012]. Изучение богатого исследовательского опыта американских психологов позволило Хекману признать некогнитивные характеристики более значимыми для успеха в учебе и в последующей жизни.
Некогнитивные навыки авторы определили как «все те личностные характеристики, которые не измеряются в традиционных тестах достижений» [Kautz et al., 2014, р. 8]. Иными словами, речь идет о методе анализа того «существенного, но до конца не описанного», которое в теории производственной функции получило название предпринимательских способностей. В первую очередь, Хекман опирался на так называемую теорию «большой пятерки» личностных качеств (Big Five) [Judge et al., 1999]:
- экстраверсия;
- доброжелательность (дружелюбие, способность достигать согласия);
- добросовестность (сознательность, включая ответственность, способность следовать намеченному плану, исполнительность);
- эмоциональная устойчивость (критерий, описывающий общую способность действовать рассудительно в стрессовых ситуациях в противоположность эмоциональной нестабильности, импульсивности);
- открытость новому опыту.
Ссылаясь на метаанализ эмпирических исследований, представленный в работе [Barrick, Mount, 1991], Хекман указал на статистически значимую корреляцию (на уровне 0.22) между трудовыми результатами и таким элементом «большой пятерки», как «добросовестность».
Одно из наиболее показательных сравнительных исследований значимости когнитивных и некогнитивных характеристик подростков для последующей трудовой деятельности было проведено самим Хекманом и его коллегами [Kautz et al., 2014]. Авторы рассматривали две группы американских учащихся: тех, кто заканчивал старшую школу в традиционном очном формате, и тех, кто не прошел школьного курса в полном объеме, но сдавал итоговый тест на когнитивные навыки (General Education Development), что официально позволяло им получить статус, равнозначный выпускнику старшей школы. Оказалось, что, хотя обе группы демонстрировали практически равные когнитивные способности (по результатам стандартных тестов достижений), между ними обнаруживались существенные некогнитивные расхождения и, как следствие, значимые последующие различия в доходах. В частности, по таким параметрам, как открытость опыту или доброжелательность, результаты имели более высокую корреляцию с последующим успехом в учебе и на рынке труда, чем «традиционные» когнитивные характеристики [Kautz et al., 2014]. Эти выводы доказывают актуальность психологических и социально-психологических аспектов человеческого капитала, которые можно интерпретировать как расширение его «общего компонента».
Другой аргумент Хекмана в пользу необходимости внедрять инструменты развития некогнитивных навыков методами образовательной политики базируется на обзоре исследований мнений работодателей США и Великобритании, которые указывают на более высокое значение таких навыков, как «исполнительность», «командная работа» или «работа с клиентами», в сравнении с навыками языковой грамотности и счета [Kautz et al., 2014].
Кроме того, авторы утверждают, что некогнитивные навыки больше, нежели когнитивные, подвержены изменению. В контексте проблемы развития человеческого капитала Хекман делает вывод о том, что именно некогнитивная часть должна быть в центре внимания системы образования.
Универсальные компетентности — недооцененный элемент человеческого капитала в условиях меняющегося рынка труда
Многие исследователи человеческого капитала противопоставляют когнитивные характеристики некогнитивным. Признание ценности обоих подходов ведет к их постепенной интеграции в единую концептуальную рамку. Важным шагом на этом пути стала дискуссия во- крут универсальных навыков [Ludger, 2015].
Упомянутые международные тесты направлены преимущественно на оценку рутинных и дисциплинарноспецифических навыков, например знания конкретных математических формул и способности безошибочно проводить вычисления. Эти когнитивные навыки можно условно назвать традиционными в той мере, в какой они отвечают привычным с начала XX в. представлениям о качествах «умного» человека и отождествляют образованность с эрудицией, т. е. большим объемом знаний в узких областях. Фактически речь идет о приоритете специфического человеческого капитала, что справедливо скорее для TIMSS, чем для PISA с ее акцентом на метапредметности при сохранении внимания к математическим и естественно-научным компетенциям.
В отличие от изысканий Ханушека и Хекмана, концепция универсальных компетентностей, начиная с 1970-х гг., не столько фокусировалась на поиске эмпирически доказанных связей между конкретными навыками и последующим экономическим успехом индивида или страны, сколько отталкивалась от прямого запроса рынка труда и бизнеса, который постепенно научился артикулировать интерес в широких умениях [Salvendy, 1969].
Строгие исследования конца прошлого века показали существенные изменения в типах труда за последние десятилетия, которые, по сути, сводятся к росту нерутинных задач и масштабов деятельности, чьей основой служит коммуникация (рис. 1) [Levy, Murnane, 2013]. С этим связано возрастание роли универсальных компетентностей, включая навыки коммуникации, кооперации, аналитического мышления, креативного действия и др., которые составляют ядро общего человеческого капитала в новом его понимании, соответствующем реалиям XXI в. [Levy, Murnane, 2004; Аникин, 2017].
Тесты, на которые опирался Ханушек, не охватывали таких навыков, как критическое мышление, саморегуляция или коммуникация. Между тем в современных дискуссиях об образовании все чаще говорят о необходимости измерения универсальных компетенций. Неслучайно в программе PISA (один из основных источников данных исследования Ханушека) в 2015 г. тесты были дополнены блоками вопросов на проверку способности к совместному решению проблем, и эту работу планируется продолжать (например, внедряя новые инструменты измерения предпринимательских способностей или креативности) [Не et al., 2017].
В сравнении со своим коллегой по отрасли 30 или 50 лет назад современному работнику существенно реже приходится целенаправленно применять, к примеру, предметные математические умения: вычисления практически любой сложности сегодня доступны даже бюджетным смартфонам [Levy, Мигпапе, 2013]. Вместе с тем востребованными остаются самые базовые когнитивные навыки, что подтверждают и результаты исследований (в частности, РІААС, проводимое ОЭСР), показывающие высокую корреляцию между когнитивной грамотностью взрослого населения и макроэкономическими показателями (например, стран Европы) [Woessmann, 2016]. Отметим также высокую взаимосвязь между результатами РІААС и PISA, которую предполагают эксперты ОЭСР [OECD, 2016]. Добавим эмпирически доказанный на европейском материале позитивный эффект применения когнитивных навыков на рабочем месте для национального экономического роста [Valente et al., 2016]. Недавнее международное исследование продемонстрировало также, что результаты PISA значимо влияют на предпринимательскую активность населения [Hafer, Jones, 2015].
Наконец, базовые предметные когнитивные способности часто служат фундаментом для усвоения более сложных метапредметных навыков и положительно связаны с некоторыми некогнитивными. Как показал метаанализ исследований взаимосвязи когнитивных навыков с личностными чертами «большой пятерки» среди взрослых [Curtis et al., 2015], отдельные из этих черт (открытость новому опыту и т. п.) находятся в устойчивой позитивной корреляции с когнитивными навыками [Curtis et al., 2015].
В то же время зависимость между предметными когнитивными навыками, универсальными навыками и чертами личности носит сложный и непрямой характер [Stankov, 2018], а потому требует специальных усилий по развитию универсальных («мягких») навыков XXI в. и некогнитивных компонентов человеческого капитала.
Основные различия во взглядах Хекмана и Ханушека на задачи образовательной политики
Ханушек и Хекман приходят к разным выводам по поводу ключевых компонентов человеческого капитала, обеспечивающих экономический рост, включая предлагаемые меры образовательной политики.
Ханушек делает акцент на относительно традиционных предметных когнитивных навыках и отдает приоритет формальному школьному образованию, прежде всего математического и естественно-научного профилей. По примеру авторитетного международного мониторинга PISA в отдельных странах было проведено множество исследований с целью выявить те характеристики национальных систем образования, которые позволяют достичь наилучших показателей в тестах. Ключами к успеху в дискуссиях по образовательной политике традиционно признаются [Deng, Gopinathan, 2016]:
- качество учительского корпуса;
- современные практики управления школой;
- четкая система мониторинга образовательных достижений учащихся;
- системная реформа процесса обучения, направленная на стимулирование инициативы, независимости и креативности учащихся.

Последний пункт служит своего рода мостом между традиционными предметными когнитивными навыками и более сложными, универсальными, а также некогнитивными, о которых говорит Хекман. Однако, по его мнению, приоритетной должна стать не столько задача правильно определить содержание обучения или набрать квалифицированных учителей, сколько поиск новых форматов самого учебного процесса. Масштабный обзор опыта образовательных интервенций в США [Kautz et al., 2014] свидетельствует о перспективности таких проектов, которые вовлекают учащегося в конструктивные практики (например, производственные) за пределами формального обучения.
Новейшие разработки в области человеческого капитала и их практическое влияние на образовательную политику
PISA-эффект
После того, как значимость когнитивных навыков, измеряемых PISA, стала общепризнанной, в научный оборот был введен термин «PISA-шок» [Pons, 2012]. Этим понятием описывается эффект, который неожиданные результаты в мониторинге оказывают на национальную политику в сфере образования и даже на самосознание граждан (пример негативного эффекта — Германия в 2000-е гг., позитивного — Португалия в 2010-е гг.). Известно немало случаев целенаправленных интервенций в системы школьного образования, более или менее эксплицитно нацеленных именно на повышение показателей в тестах PISA. В том же русле лежат и текущие усилия по модернизации российского школьного образования.
Исследование компании McKinsey [Mourshed et al., 2010], охватившее около 575 конкретных интервенций в 20 локальных школьных системах, подтвердило, что реальное содержание образовательного процесса в подавляющем большинстве стран мира подчинено идее воспроизводства традиционных практик, связанных с повторением рутинных когнитивных операций и заучиванием, — teaching, а не learning. Системы образования сохраняют жесткую дисциплинарную ориентацию и недостаточно поощряют творческие, командные и проектные формы работы.
Мировой опыт показывает, что современные системы образования пока не научились решать задачу развития широких навыков общего человеческого капитала для XXI в. Даже ограничившись лишь теми странами, которые достигли общепризнанного прорыва в PISA, мы обнаружим расхождение между идеей «лучших практик» и реалиями конкретных преобразований.
Так, пример Сингапура [Deng Gopinathan, 2016] свидетельствует, что решающее значение для успеха страны имели не столько общепризанные универсальные решения (рекрутирование лучших выпускников в учительский корпус, развитая система повышения их квалификации, модернизация учебных планов), сколько контекстные факторы, включая национальную культуру (конфуцианские ценности, характерные и для других азиатских народов, демонстрирующих высокие результаты в PISA) и институты (модель «высоких ставок» повышает значимость высокой успеваемости в старшей школе). Однако еще в 2011 г. Сингапур официально заявил о переходе с парадигмы образования как инструмента развития навыков строго под существующие рабочие места к образованию как способу развития человека в более широком понимании, выходящем за пределы текущих запросов рынка труда [Reimers et al., 2019].
Пример приоритета контекстных факторов над «лучшими практиками» дает и другой «звездный» кейс — Финляндия. Вопреки усилиям ОЭСР по продвижению инновационных педагогических практик как важного фактора успеха в PISA финские учителя преподают традиционными методами, подкрепленными высоким социальным доверием и профессиональным статусом школьного работника [Simola, 2005].
Финляндию, Сингапур, Южную Корею, Японию и ряд других стран, занимающих лидирующие позиции в PISA, объединяет высокое значение в учебных курсах математики, естественно-научных и языковых дисциплин, а вовсе не общих компетенций, которые ОЭСР полагает важным фактора успеха в PISA [Waldow et al., 2014]. Показателен и пример России, где PISA принята в качестве официального инструмента оценки качества образования (включая национальный проект «Образование»), но весьма скромный рост национальных показателей истолковывается в пользу сохранения той архаической педагогической модели, которую ОЭСР пытается модернизировать.
Недавнее компаративное исследование Коматсу и Реппли показало отрицательную корреляцию (на уровне средних страновых значений показателей мониторинга PISA) между национальными индикаторами естественно-научной функциональной грамотности и средним уровнем самостоятельности, интереса и мотивации учащихся в ходе изучения соответствующих дисциплин [Komatsu, Rappleye, 2017b].
Ответить на вопрос о совокупных эффектах проекта PISA для практической международной образовательной политики оказывается непростой задачей. Универсальные решения, такие как развитие инновационных форм педагогики и общих компетенций как инструментов повышения качества обучения, вопреки декларациям ОЭСР, зачастую уступают в значимости локальным культурным и институциональным условиям, которые даже в странах-лидерах сохраняют традиционный характер с приоритетом learning над teaching. Что касается инновационной педагогики, то ее распространение идет недостаточно быстрыми темпами, как свидетельствуют результаты исследований отдельных кейсов, включая российский, которые демонстрируют отсутствие заметного изменения непосредственного педагогического процесса в странах-лидерах. Вместе с тем задача комплексной трансформации систем образования в направлении расширения инициативы, самостоятельности и креативности учащихся остается в повестке экспертных дискуссий и отдельных экспериментов. Нарастают дебаты вокруг развития в системе образования «агентности» (agency) учащихся, но не в русле институциональной экономики с ее логикой различения «принципал — агент», где последний рассматривается как зависимый от принципала целерациональный актор, максимизирующий полезность для себя в заданных институциональных границах. В данном случае, мы оперируем понятием агентности скорее в социологическом ключе, через призму проблемы «структура — действие» (structure — agency) [Udehn, 2002], где агентность предстает силой, способной менять структуру, институты, а не только воспроизводить их. Вероятно, синонимами агентности в данном контексте могут служить инициативность, активная самостоятельность, трансформирующее или расширенное действие и т. п.
В экспертных дискуссиях все чаще признается самостоятельная ценность агентности, не сводимая к другим навыкам, или компонентам человеческого капитала [Estrin et al., 2016; Bosio et al., 2018]. Однако в образовательной политике большинства стран этот подход играет второстепенную роль. Пожалуй, лишь в недавнем проекте ОЭСР «Education 2030» агентность рассматривается и как важнейший результат, и как условие образования [OECD, 2018]. Представляется, что проблема состоит не только в том, что ОЭСР распространяет не универсально применимые подходы, но и в том, что страны недостаточно активны в трансформации своих образовательных систем.
Развитие некогнитивных навыков через систему образования: уроки для практической политики
Как отмечают Хекман с коллегами, составившие подробный обзор всех известных интервенций по развитию некогнитивных навыков (прежде всего на материале США) в докладе для Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER) [Kautz et al., 2014], значение этих инициатив было признано экспертными кругами лишь в последние годы, что объясняет отсутствие масштабных национальных программ в рассматриваемой сфере. Авторы подчеркнули скудность данных об эффектах интервенций по развитию некогнитивных навыков среди учащихся старше раннего детского возраста. Подобные примеры очень редки (по крайней мере в США, чей опыт интересовал Хекмана в первую очередь).
Обобщая имеющийся опыт (преимущественно программ для детей с низким социально-экономическим статусом и проблемами в обучении), исследователи указывают на сравнительно низкую эффективность программ, не выходящих за рамки школы, среди подростков в сравнении с программами менторства или наставничества, адаптированными к конкретному рабочему месту [Kautz et al., 2014]. В значительном числе проанализированных интервенций показано отсутствие положительного эффекта (или, в отдельных случаях, наличие отрицательного) [Kautz et al., 2014]. В частности, это касается тех программ, которые на короткое время погружали человека в специфическую поддерживающую среду, лишая его ощущения автономности, уверенности, что он может справиться с проблемой самостоятельно [McCord, 1978]. В других случаях причиной неудачи могло служить чувство излишней защищенности и поддержки участников проекта вне зависимости от того, достигнут ли они ожидаемых результатов по его итогам [Rodriguez-Planas, 2010].
Заметный разброс в эффективности проектов, проанализированных Хекманом с коллегами (вплоть до отрицательных значений), свидетельствует об отсутствии у образовательного сообщества готовых и хорошо проработанных решений по развитию некогнитивных навыков (в особенности среди детей и молодежи, исключая самые младшие возрастные когорты).
Таким образом, адаптация образовательных систем к задачам развития личностных качеств сложнее стимулирования самоэффективности, твердости характера (grit) и т. п. характеристик [Ng-Knight, Schoon, 2017]. Ведущие исследовательские центры прилагают большие усилия к разработке соответствующих индикаторов и все еще далеки от достижения этой цели. Фактически образовательная политика большинства стран мира, включая Россию, в полной мере не усвоила ключевую идею Хекмана о роли личностных качеств в жизненном успехе. Отчасти это объясняется отсутствием общепризнанного проработанного инструмента измерения соответствующих характеристик. Однако даже при наличии последнего, указанные аспекты человеческого капитала настолько плохо отражены в реальной образовательной практике, что подступиться к задаче их развития в существующих условиях решаются лишь страны с наиболее успешными системами образования, уже достигшие лидерства в традиционных областях. Например, Сингапур, занимающий ведущие позиции в PISA, теперь проводит эксперименты по интеграции формального и неформального обучения на основе современных технологий [Looi et al., 2016].
Развитие универсальных компетентностей как практическая задача образования
Важным шагом к сокращению разрыва между образовательной практикой и требованиями времени стало продвижение (в частности, силами ОЭСР [Ludger, 2015]) концепции «универсальных компетентностей» (вар.: «ключевые компетенции» (core competences), «навыки XXI века» (21 century skills) и т. д.). Соответствующие требования нашли отражение в национальных образовательных стандартах большинства стран — членов ОЭСР. Вместе с тем списки компетенций существенно различаются в разных странах и организациях. Не остается в стороне от международных дебатов и Россия, где также предпринимаются попытки сформулировать конечный список «ключевых» компетенций [Фрумин и др., 2018]. Многие существующие классификации объединяет сочетание когнитивных (например, мышление высокого порядка, higher order thinking), социальных (навыки коммуникации и др.) и социально-психологических характеристик (позитивное представление о себе и т. д.) [Фрумин и др., 2018].
Конкретные формулировки и индикаторы ключевых компетенций по-прежнему выглядят размытыми и зачастую пересекаются, что не позволяет международному сообществу достичь консенсуса, подобного тому, который сложился вокруг инструментов PISA или «большой пятерки» личностных качеств. Отсутствие общепризнанного инструментария в свою очередь затрудняет выработку конкретных фундированных практических рекомендаций. Неопределенным зачастую остается как реальный практический эффект того или иного предположительно универсального навыка для достижений индивида, так и роль образования в них.
Описанные ранее подходы к развитию предпринимательских навыков в ходе формального обучения можно рассматривать в контексте вопроса об универсальных компетенциях хотя бы потому, что в ряде стран и регионов (например, в Финляндии или в канадской Британской Колумбии) эти навыки являются
обязательными для освоения уже на школьном уровне. В то же время именно предпринимательское образование вопреки росту его популярности остается объектом наиболее острой критики в профессиональной литературе: актуальные формы его развития объявляются недостаточно эффективными, а предлагаемые альтернативы требуют радикального изменения учебного процесса и при этом не учитывают существующих наработок в области человеческого капитала и ориентируются скорее на «бутиковые» программы, чем на массовый уровень [Oosterbeek et al., 2010; Martin et al., 2013; Neck, Greene, 2011].
Разрыв между теорией и практикой развития человеческого капитала
Проанализированный опыт исследований образования и отдельных компонентов человеческого капитала дает богатый материал для дальнейших научных изысканий и практической политики. Накоплено достаточно свидетельств высокого значения для индивидуального успеха и экономического развития страны двух ключевых компонентов человеческого капитала: когнитивных (прежде всего предметных, дисциплинарных) и некогнитивных навыков (включая «большую пятерку» личностных качеств), причем первые, по мнению многих специалистов, играют более важную роль.
Однако универсального решения в вопросе развития тех или иных элементов человеческого капитала в рамках национальной образовательной политики так и не было найдено. На первый взгляд, сложился консенсус вокруг основных инструментов развития когнитивных навыков, но детальный анализ историй успеха — Сингапура [Deng, Gopinathan, 2016], Финляндии [Simola, 2005], Южной Кореи [Waldow et al., 2014], Японии [Komatsy, Rappleye, 2017] — заставляет усомниться в этом. Развитие некогнитивных навыков недостаточно изучено и не дает решений с доказанной эффективностью (кроме в целом подтвержденной гипотезы о большей эффективности механизмов наставничества и менторства, так или иначе связанных с профессионализацией и конкретным рабочим местом).
Несмотря на существенный рост соответствующих расходов в большинстве стран мира, экспертное сообщество признает невысокую эффективность национальных систем образования в повышении качества человеческого капитала. Ключ к объяснению этого парадокса, или выделенного нами ранее «мисмэтча» между, с одной стороны, увеличением инвестиций в образование и расширением его охвата, а с другой — экономическим ростом, может лежать в институциональной плоскости: организация образования, его содержание и формы педагогических практик не соответствуют тем критериям и подходам, которые на протяжении более полувека развивались в русле теории человеческого капитала.
Отставание практической образовательной политики от разработок в области теории человеческого капитала проявляется также в отсутствии общепризнанных инструментов измерения его когнитивных и некогнитивных характеристик, релевантных для послешколь- ного образования (не считая уровня заработной платы после завершения обучения). Рейтинги университетов нацелены на измерение научной продуктивности, но не содержательных характеристик человеческого капитала студентов, а международных мониторингов качества результатов обучения в организациях среднего профессионального образования не существует.
Важным инструментом контроля качества работы вузов с точки зрения подготовки человеческого капитала служит мониторинг трудоустройства выпускников (в разрезе не только университетов, но и направлений подготовки), включая данные о заработной плате. Централизованная система государственной статистики и подчинение университетов федеральному центру в России облегчают эту задачу, которая уже реализуется [Минобрнауки, 2016]. Преимущество отечественного подхода состоит, в частности, в сборе данных не на основе самооценки респондентов, но на базе объективной информации из Пенсионного фонда РФ.
Однако и здесь Россия находится в положении догоняющей. Учет заработных плат и трудоустройства выпускников в той или иной форме ведется практически во всех развитых странах. Например, Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics, BLS) публикует данные как об официальных начислениях, так и о самооценках различных категорий респондентов, включая сведения об образовании без привязки к конкретным вузам. Данные о последних удается получить благодаря специальным (не ежегодным, а потому ограниченным в выборке) опросам Департамента образования (US Department of Education).
И все же даже самая детальная информация не компенсирует недостатка данных о реальных компетенциях выпускников, т. е. о тех компонентах, которые формируют отдачу от человеческого капитала. Заполнить эту лакуну позволяют исследования (в том числе международные) профессиональных компетенций студентов и выпускников [Loyalka et al., 2019], впрочем, все еще довольно немногочисленные.
Новые вызовы теории человеческого капитала
Описанную ситуацию дополнительно усложняет и запутывает не только отставание образовательной политики в вопросе имплементации научных достижений теории человеческого капитала, включая как ее специфический компонент (который мы связываем прежде всего с узкопредметными знаниями и навыками), так и общий (охватывающий, в частности, универсальные навыки и личностные качества). Не менее серьезным оказывается и другой вызов системе образования, который Хекман и Ханушек отчасти недооценивают. Но для начала отметим, что помимо проанализированных явных различий, подходы этих исследователей обнаруживают несколько важных общих черт.
- Тезис о «гомогенности во времени». Обе концепции явно или косвенно исходят из неизменности базовых социально-экономических условий в развитых странах на протяжении последних десятилетий. Значимость как некогнитивных, так и дисциплинарных навыков рассматривается в качестве своеобразной кон
станты. В случае с Ханушеком это сделано эксплицитно: показатели когнитивных предметных навыков буквально вшиты в формулируемые автором регрессионные модели, определяющие ВВП. В случае с Хекманом отчасти из-за отсутствия аналогичных репрезентативных данных охватывающие более полувека регрессионные модели не строятся, однако сама аргументация автора не оставляет сомнений в неизменности среды. В частности, значительная часть его аргументации базируется на исследованиях, относящихся к первой половине XX в., когда психологи признали личностные черты факторами успеха, тогда как модель «большой пятерки» появилась лишь в 1960-е гг. - Тезис о «гомогенности в пространстве». Оба исследователя исходят из того, что описываемые ими закономерности развития человеческого капитала носят универсальный характер не только во времени, но и в пространстве. В работах Ханушека это прямо вытекает из универсальной регрессионной модели — «формулы успеха» — и следующего за ней тезиса об одинаковом для экономики любой страны эффекте от повышения средних баллов PISA на одно стандартное отклонение [Hanushek, Wowssmann, 2010]. Хекман также прямо утверждает «универсальную ценность некогнитивных характеристик в различных культурах, регионах и обществах» [Kautz et аі., 2014, с. 2].
- Следуя классическим постулатам экономической теории, оба автора допускают возможность прямой экстраполяции тезиса об отдаче от человеческого капитала на индивидуальном уровне (в виде более высокой заработной платы для более образованного/умелого работника) на совокупную отдачу на уровне общества в целом (в виде роста ВВП и других макроэкономических показателей). Тем самым без внимания остаются упомянутые ранее микро/макро парадокс и проблема «ловушки среднего дохода».
На наш взгляд, указанные особенности подходов обоих авторов приводят к тому, что за пределами их рассмотрения оказывается возможность прямого воздействия человеческого капитала на формирование и эволюцию экономических институтов. Анализируемые Ханушеком характеристики человеческого капитала заведомо относятся к «современным» рабочим местам (предположительно уже существующим в момент выхода человеческого капитала на рынок труда). Хекман же, на первый взгляд, основное внимание уделяет социальным аспектам трудовой деятельности и показывает, насколько важно развить не только некие универсальные когнитивные навыки (предположительно важные для решения прямых производственных задач), но и те, что позволяют жить среди людей, строить с ними отношения и преодолевать трудности. Вместе с тем у Хекмана речь идет об индивидуальных характеристиках, позволяющих не столько создавать новые институты, сколько адаптироваться к уже существующим — неслучайно образцовыми механизмами развития некогнитивных навыков для него выступают традиционные для XIX в. менторство и ученичество [Kautz et аі., 2014].
Выделенные общие черты подходов Ханушека и Хекмана имеют решающее значение как для современных исследований образования, так и для практической политики в этой сфере. Вместе с тем, они не в полной мере отвечают на новые вызовы развития человеческого капитала, которые мы рассмотрим далее.
Роль человеческого капитала в социально- экономическом прогрессе в XXI в.: новые вызовы и задача развития агентности
Неустойчивость современной бизнес-среды достигла тех пределов, которые едва ли мог представить себе Шульц, в 1975 г. концептуализировавший необходимость действовать в условиях неопределенности [Schultz, 1975]. Суть его идеи состояла в выделении особого предпринимательского аспекта человеческого капитала — способности управлять (распределять — allocative abilities) своими знаниями и навыками, экономически грамотно их позиционировать, находить оптимальные способы их использования в хозяйственной деятельности. В своей нобелевской лекции от 8 декабря 1978 г. [Schultz, 1978] он подчеркнул, что выделенные им способности имеют большое значение не только на рынке труда, но и в домашнем хозяйстве, а также при принятии решений относительно образовательной траектории. Шульц утверждает:
Человеческий капитал служит росту производительности труда и предпринимательских способностей (entrepreneurial abilities). Эти способности (allocative abilities) ценны в сельскохозяйственном, несельскохозяйственном и в домашнем производстве, в распределении времени и других ресурсов, которые студенты вкладывают (allocate) в свое образование. Они также играют важную роль в поиске лучших рабочих мест и мест для проживания [Schultz, 1978].
Особенность подхода Шульца в сравнении с другими трактовками состоит в отказе от представления о том, что человеческий капитал непосредственно и автоматически реагирует на ситуацию на рынке труда. Даже при наличии прямого рыночного запроса далеко не все люди готовы переехать в другой город, обучиться новой профессии и сменить работу ради лучшей жизни, т. е. лишь немногие обладают способностями, которые имеют решающее значение для индивидуального успеха. В отличие от Йозефа Шумпетера (Joseph Scumpeter), который полагал предпринимательские способности неким природным даром, независимым от экономической ситуации, Шульц настаивал, что именно система образования повышает эффективность человека в условиях непредсказуемых изменений, неопределенности и риска [Piazza-Georgi, 2002].
Несмотря на высокую цитируемость работы Шульца (преимущественно в литературе по экономике [Acemoglu, Restrepo, 2018], менеджменту и инновациям [Lundvall, 2010]), ее центральная идея об особом предпринимательском компоненте человеческого капитала оказалась на периферии современных дискуссий об образовании [Klees, 2016; Tan, 2014; Marginson, 2017], хотя детально обсуждалась еще в начале 2000-х гг. [Piazza- Georgi, 2002]. При этом подход Шульца дает убедительные аргументы в споре с критиками теории человеческого капитала и ее применения к регулированию системы образования [Klees, 2016; Tan, 2014; Marginson, 2017]. Растущий сегмент предпринимательского образования в третичном секторе можно рассматривать в качестве практического ответа системы, вызревшего естественным путем и все больше укореняющегося благодаря рыночным механизмам. Однако нынешний уровень внимания к предпринимательскому компоненту остается формальным и недостаточным. Лишь отдельные страны и регионы внедрили его систематическое освоение в программу школьного обучения. К сожалению, рост числа аналогичных курсов в третичном секторе не подкрепляется их достаточным качеством, хотя его позитивный эффект для генерации новых бизнесов (в том числе в России [Духон и др., 2018]) очевиден.
На наш взгляд, тектонические сдвиги последних десятилетий не находят достаточного отражения в политической практике и требуют не только достройки, но и перестройки многих элементов образовательной системы.
Волатильность современной экономики и неустойчивость отдельных компаний связаны не столько с плохим стратегическим планированием, сколько с объективно быстрыми изменениями технологий, а значит, и требований к компетенциям работников [Bessen, 2016]. Идея профессиональной подготовки на всю жизнь не соответствует современной динамике технологического и социального развития. Как отмечается в докладе компании Deloitte, посвященном трендам развития человеческого капитала, уже сегодня регулярность обновления профессиональных навыков должна составлять в среднем менее 5 лет, тогда как ожидаемый период трудовой активности лиц, впервые к ней приступающих, составляет от 60 до 70 лет [Deloitte, 2017, р. 30].
Описанный тренд наглядно проявляется в глобальном росте сектора услуг [ILO, 2018], доли рабочей силы, занятой во фрилансе (до 50% к 2027 г. в США [Upwork Global, 2017]), а также роли микро- и малого предпринимательства в мире как потенциально основного генератора рабочих мест [Li, Rama, 2013], что фактически опровергает тезис о «гомогенности во времени». Мир меняется, а значит, могут меняться значимость тех или иных элементов человеческого капитала и механизмы их капитализации, т. е. имплементации в экономику. Учитывая неравномерность глобального перехода разных стран к четвертой индустриальной революции, под вопрос ставится и тезис о «гомогенности в пространстве» (даже в пределах одной страны). Это особенно актуально для таких дифференцированных экономик, как российская или китайская, сочетающих высокопроизводительные сектора с малоэффективными.
Технологическим фактором, лежащим в основе значительной части описываемых трендов, служит бурное развитие «платформ», которые создают «экономику совместного потребления» (sharing economy), свободную от ограничений традиционных структур и форм координации деятельности (по крайней мере, в технологизированных отраслях экономики и крупнейших мегаполисах). Продавцы и покупатели, партнеры и заказчики все чаще непосредственно взаимодействуют друг с другом с помощью платформ, а контроль качества обеспечивается благодаря общедоступным индивидуальным отзывам, в совокупности образующим большие массивы данных, последующий анализ которых с использованием искусственного интеллекта (ИИ) позволяет делать доказательные выводы о динамике рынков.
Изменения в экономическом поведении, наступившие вслед за появлением платформенных технологий, интерпретируются по-разному: от полного непризнания существенного структурного значения платформ до объявления их провозвестниками заката всей рыночной экономики, на смену которой приходят принципиально иные, альтруистические формы хозяйствования [Arvidsson, 2018]. Вместе с тем многие исследователи полагают, что платформы не только не снижают конкуренцию, но, напротив, обостряют ее [Arvidsson, 2018]. Некоторые полагают, что реконфигурация экономического поведения участников платформ предъявляет иные требования к человеческому капиталу, сочетающие запрос на креативность с востребованностью новых социальных навыков, например способности выстраивать солидарные отношения [Carfagna, 2018].
Динамика российского рынка труда — рост занятости в розничной торговле и сокращение спроса в высокотехнологичных отраслях — кажется несовместимой с развитием технологий, радикально меняющих ландшафт современной экономики. Однако в действительности эти два тренда дополняют друг друга. Отчасти в силу сокращений на предприятиях доля россиян, которые относят себя к категории самозанятых (не имеют постоянной работы и сами ищут для себя заказчиков), за 2017 г. выросла с 10 до 18% [НАФИ, 2017]. К тому же современные технологии позволяют работнику не только отказаться от традиционных форматов корпоративной занятости, но и легко преодолеть географические границы: по данным РБК, особое значение для фриланса в России приобретают зарубежные партнеры [Ли, 2017]. В результате меняются сами характеристики организаций и индивидов, способных сохранять устойчивость в условиях неопределенности. В дополнение к этому решающее значение для ускорения экономического роста могут иметь не только институты, но и мастерство руководителей [Acemoglu et al., 2006].
Успех в современной деловой среде может обеспечить далеко не только высокая квалификация или компетентность работников. В литературе по менеджменту постепенно закрепляются понятия «предприимчивая организация» (entrepreneurial organization) [Kirkham, Mosey, 2017], «предприимчивый менеджер» (entrepreneurial manager) [Cook, 2017]), «предприимчивое поведение в организации» (entrepreneurial behavior) [Jong et al., 2015]) и т. п. Так, «трансформационный человеческий капитал организации» (transformational human capital) [Ling Jaw, 2006] подразумевает способности сотрудников к корпоративному предпринимательству в широком смысле, т. е. инициативному совершенствованию компании, продуктов, форм и методов работы, к которому предположительно способен каждый сотрудник [Birkinshaw, 1997]. Этот подход реализован в широко известной японской модели менеджмента, обеспечившей стране беспрецедентные темпы роста в XX в. [Suzuki, 2016]. И это неслучайно: одна из ключевых особенностей азиатских моделей корпоративного управления (наиболее ярко воплощенная в системе менеджмента Toyota [Liker, 2001]) — постоянный контроль за бизнес-процессами в целях не столько сохранения существующей технологической системы, сколько поиска и внедрения способов ее совершенствования при участии всех сотрудников. Тем самым японская практика предлагает альтернативу западной модели веберовской бюрократии [Udy, 1959] с узкой функциональной специализацией исполнителей, четкой иерархической структурой субординации и последовательным воспроизводством утвержденных регламентов.
«Новый средний класс» [Аникин, 2017], представляющий корпоративную элиту и прочно обосновавшийся на вершине социальной пирамиды развитых стран в 1960- 1980-х гг., по мере сокращения корпоративного сектора (в том числе в России) в последние годы вынужденно уступает место другим социальным группам, претендующим на высокий социальный статус: работникам креативных индустрий, высокооплачиваемым фрилансерам и предпринимателям, которые не только не следуют традиционным корпоративным правилам, но порой открыто им противостоят [Hesmondhalgh, Baker, 2010].
Впрочем, предпринимательские компетенции (entrepreneurial skills) востребованы не только будущими предпринимателями. Недавнее исследование, охватившее 18 стран ОЭСР, показало, что навыки этого типа имеют особое значение для успешной корпоративной карьеры современного выпускника вуза [Kucel et al., 2016]. Речь, таким образом, идет не столько о предпринимательских компетенциях в буквальном смысле, которыми пользуется лишь определенный сегмент рабочей силы, сколько о предприимчивости (entrepreneurship) как способности находить эффективные способы приложения собственного человеческого капитала. Однако в области обучения предпринимательским навыкам особенно рельефно проступает ригидность современных образовательных систем. Эта сфера, как отмечают исследователи, также не свободна от традиционных педагогических методик [Oosterbeek et al., 2010; Unger et al., 2011].
Образовательные системы по всему миру стоят перед беспрецедентно сложной задачей помочь каждому индивиду достичь успеха в мире платформ и фриланса, в котором привычные институциональные границы и водоразделы между идентичностями и жизненными стилями, амбициями и культурными стандартами стираются [Meyer, 2010], а разрывы в доходах и уровне жизни людей стремительно растут [Piketty, Zucman, 2014], во многом в зависимости от характеристик человеческого капитала. Особое значение в этой связи приобретает развитие искусственного интеллекта [Brynjolfsson et al., 2018], который не столько вытесняет человека из целого ряда профессий (фактически их уничтожая), сколько меняет их, делая ненужным то, что на протяжении XX в. составляло ядро производительности человеческого капитала, — сложные рутинные навыки. От системы образования в этих условиях ожидается прежде всего совершенствование нерутинных навыков (как физических, так и интеллектуальных), а также других характеристик, позволяющих эффективно функционировать и развиваться в мире искусственного интеллекта и платформ. Фактически речь идет о способности создать себе рабочее место, а затем адаптировать его к меняющейся среде и новым технологическим возможностям. Достичь этой цели невозможно без учета общемировых трендов и серьезного переосмысления собственного опыта каждой страной (и Россия — не исключение).
Исследователи предлагают различные подходы к концептуализации описанных общественных изменений: «текучая современность» (liquid modernity) [Bauman, 2005], центральной характеристикой которой становится создание новых социальных форм и структур (морфогенетическое общество) вместо воспроизводства существующих (морфостатическое общество) [Archer, 2013]. Британский социолог Маргарет Арчер (Margareth Archer) пишет об «императиве рефлексивности в современном мире» как индивидуальной способности проблематизировать социальный контекст на фоне резкого роста изменчивости среды и снижения роли «габитуса» — неосознаваемых диспозиций о том, что, зачем и как надо делать, которые согласно теории Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieux) лежат в основании общества модерна [Archer, 2012].
Современный мир требует чего-то большего, нежели высокие показатели отдельных компонентов «большой пятерки» личностных черт. От индивида ожидаются не просто открытость новому опыту, т. е. умение адаптироваться к внешним изменениям, готовность ради этого учиться и развиваться, но и готовность быть проактивным, инициировать создание новых социальных структур и форм действия. В этом состоит прямой ответ на проблему связи человеческого капитала с институтами. В отличие от Хекмана и Ханушека предлагаемый подход вводит дополнительное измерение человеческого капитала — его вклад в создание/трансформацию институтов, так называемое институциональное предпринимательство [Hardy, Maguire, 2017].
Другим подобным измерением, складывающимся на наших глазах, служит способность эффективно действовать в условиях фундаментальной структурной неопределенности — неравновесия (non-equilibrium), в терминологии Шульца. Эта гипотеза согласуется с новейшими разработками в области фундаментальной социологии, касающимися проблемы агентности. Ее суть состоит в вопросе о соотношении социальной структуры и человеческого действия (о различиях в подходах к трактовке агентности между экономистами-институционалистами и социологами было сказано ранее). Несмотря на тезис Бурдьё и Энтони Гидденса (Anthony Giddens) о ложном противопоставлении этих понятий в силу их аналитического единства [Archer, 2012, 2013], современные исследователи обращают внимание на непосредственно наблюдаемый рост изменчивости институтов и разнообразия форм агентности. Такие трансформации порождают следующие фундаментальные вопросы: может ли индивидуальное/коллективное действие запускать структурные перемены, и если да, то в каких условиях и посредством каких механизмов? Только ли «хорошие» структуры порождают «полез
ную» для общественной динамики агентность, и если нет, то каким образом структура сообщает индивидам и группам способность к «институциональному предпринимательству» (institutional entrepreneurship) [Fligstein, 2008] ? В какой степени поведение социальных предпринимателей может быть эффективно описано теорией рационального действия?
Большинство авторов таких популярных концепций, как «расширенное действие» (expanded actorhood) [Meyer, 2010], «рефлексивный мониторинг действия» (reflexive monitoring of action) [Giddens, 2013], «императив рефлексивности» (reflexive imperative) [Archer, 2012], «социальные навыки» (social skills) [Fligstein, 2008], «стратегическое действие» [Радаев, 2002] и др., признают роль индивидуального действия в сознательной трансформации институтов. Для задач нашего исследования ключевым является вопрос о возможном вкладе образования в развитие агентности (инициативности, проактивности, предприимчивости, активной самостоятельности) как предположительно приоритетного элемента человеческого капитала в новом тысячелетии. Наряду с упомянутыми социологами наиболее активно данную проблематику разрабатывают теоретики нового институционализма и психологи. Так, Ингрид Шун (Ingrid Schoon) с коллегами изучают индивидуально-личностные механизмы, определяющие способность человека «действовать вопреки» (по выражению Вадима Радаева [Радаев, 2002, с. 31]) структурным предпосылкам [Gutman, Schoon, 2018; Ng-Knight, Schoon, 2017]. К сходным темам обращаются российские психологи, анализирующие феномен преадаптивности [Асмолов, 2015, 2017].
Серьезные наработки в области изучения агентности накоплены исследователями образования. В широко цитируемой статье [Reeve, Tseng 2011] агентность рассматривается как лежащая в основе четвертого (наряду с традиционными эмоциональным, поведенческим и когнитивным), самостоятельного типа вовлеченности учащегося в учебный процесс. «Агентная вовлеченность» (agentive engagement) соразмерна творческому вкладу учащегося в процесс обучения, включая содержательные и методологические его аспекты. На материале количественного эмпирического обследования авторы показывают, что концептуально и статистически этот тип вовлеченности не сводим к другим формам участия в учебном процессе. Принципиальная ценность агентной вовлеченности для практической образовательной политики состоит в том, что она позволяет учащемуся самостоятельно формировать поддерживающую среду для собственной учебной деятельности [Reeve, 2013].
В обзоре трактовок агентности в сфере образования, предпринятом Дженни Арнольдом (Jenny Arnold) и Дэвидом Кларком (David Clarke) [Arnold, Clarke, 2014], отмечается большой интерес исследователей и практиков к трансформации привычного процесса обучения в комплексную социальную активность, направляемую самими учащимися. Авторы рассматривают широкий спектр подходов к концептуализации агентности, включая критическую этнографию, символический интерак- ционизм и многие другие, однако ни разу не упоминают теорию человеческого капитала. На наш взгляд, агентность должна найти в ней свое место, в том числе благодаря тем предпосылкам, которые создал для этого Шульц.
Выше мы попытались показать, что круг источников в области трансформационного, предпринимательского, агентного измерения человеческого капитала не исчерпывается академическими работами, но включает менеджериальную литературу, а также разработки лидеров рынка глобального консалтинга в сфере управления. Мир бизнеса располагает не меньшим количеством ценных наблюдений и продуктивных кейсов, чем багаж теоретических моделей, накопленный в науке.
Необходимость в дальнейшем развитии агентности в современных системах образования не означает, что ее следует рассматривать как универсальный ответ на любые вызовы либо как полную замену, субститут по отношению к другим, более общепринятым элементам человеческого капитала.
В условиях снижения роли структур и механизмов, традиционно обеспечивающих социальную солидарность и сплоченность (семьи, религии, корпораций, государства), и растущей атомизации общества необходимая для ускорения экономического роста агентность должна сохранять некий разумный баланс, нарушение которого чревато социальной поляризацией и аномией. Особенность предлагаемого нами подхода к роли формального образования в развитии трансформационного, предпринимательского элемента человеческого капитала состоит в отказе от представления о его несовместимости с теорией агентности, на чем настаивают некоторые авторы [Klees, 2016].
Заключение
К 2030 г. едва ли останется хоть одна профессия, содержание которой не будет затронуто стремительным расширением технологических возможностей. По данным ВЭФ, во всех группах отраслей доля полностью автоматизированных производственных операций за период 2018-2022 гг. увеличится в среднем на 20-50% [WEF, 2018, р. 11]. Темп этих изменений будет лишь нарастать, углубляя и без того резко обозначившиеся разрывы в производительности труда как внутри стран и отраслей, так и между ними. Проигравшие в этой глобальной гонке утратят прежние позиции наряду с возможностью обеспечить высокое качество жизни населения в текущих демографических условиях. О последних следует помнить, поскольку население по всему миру стремительно стареет, тогда как, по данным McKinsey [Manyika et al., 2015], именно прирост рабочей силы обеспечивал около 50% глобального экономического роста в 1964- 2014 гг. Сегодня этот фактор полностью исчерпан и начинает оказывать негативный эффект, преодолеть который и просто сохранить темпы роста мирового ВВП позволит лишь кратное повышение производительности труда каждого работника.
Переосмысление роли отдельного индивида в экономическом развитии требует реконцептуализации и различения человеческого капитала и человеческого
потенциала. Представление о человеке как «винтике», который необходимо качественно и в соответствии со строгими стандартами изготовить и поместить в определенное место большого рыночного механизма, давно устарело. Человеческий капитал, сформированный таким подходом, с высокой вероятностью окажется отрицательным: субъект с «жесткими» и неорганичными ему компетенциями просто не найдет удовлетворительно оплачиваемой работы и рискует остаться вовсе безработным. Характерный пример в этом отношении дает феномен низкой (<10—12%) зарплатной премии выпускников программ среднего профессионального образования и отрицательной — выпускников программ начального профессионального образования [Биляк и др., 2011]. В российских реалиях эту ситуацию усугубляют несоответствие рынка труда задачам инновационного развития экономики и ряд других макроэкономических институциональных условий. Расширенное понимание человеческого капитала, на котором мы настаиваем, предполагает развитие в индивиде четырех групп качеств.
- Специфический человеческий капитал — специальные компетенции, адаптированные к конкретным рабочим местам, которые согласно классической теории человеческого капитала формируются в ходе узконаправленного (монодисциплинарного, моно- предметного) образования и накопления опыта работы. Измерителями таких компетенций могли бы служить профессиональные экзамены и другие строгие инструменты, отечественные попытки разработать которые за последние пять лет не увенчались успехом [Мурычев и др., 2017]. В мире существует несколько примеров удачных корпоративных измерителей для внешнего рынка: CFA2 (Подробнее см.: https://www.bloombergprep.com/?utm_source=google_ads8aitm_medium=cpc8aitm_campaign=16196495788nitm_term=cfa8aitm_content=308688167014&gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYmJDx41CSm9p0dpuGCXauueHuFlq0SfVhHBBusBNF-7nDevYC7axTxoCDVsQAvD_BwE, дата обращения 19.05.2019.), Microsoft Certified Professional (MCP)3 (Подробнее см.: https://www.microsoft.com/ni-ru/learnmg/niicrosoft-certified-professional.aspx, дата обращения 19.05.2019) и др. Их значение для национальных экономик ничтожно, но в совокупности они могут сложиться в эффективный индикатор развития специфического человеческого капитала на определенной территории (в государстве);
- Общий человеческий капитал 1 — универсальные компетентности, такие как креативность, критическое мышление, переобучаемость, организованность и способность взаимодействовать с другими. Они формируются в ходе творческой, проектной работы за счет дополнения традиционного образования опытом коллективной и самостоятельной деятельности в новых форматах. Значимые усилия по измерению подобного капитала прилагает в последние годы ОЭСР, совершенствуя мониторинг PISA;
- Общий человеческий капитал 2 — базовые некогнитивные характеристики, объединяющие «большую пятерку» личностных качеств, а также твердость характера, устойчивость, психическую адаптивность в условиях социальных изменений и вызовов и т. д. Эти характеристики формируются как в ходе специальных видов деятельности, так и за счет усиления социально-личностного компонента традиционного образования;
- Общий человеческий капитал 3 — агентность, или активная самостоятельность, в широкой трактовке — предпринимательский элемент человеческого капитала [Schultz, 1978]. Образует и предполагает способность к трансформации социальных структур и институтов, преобразованию мира к лучшему в конструктивном взаимодействии с окружающими, включая создание новых видов и форм деятельности (в том числе в экономике). Вынося за скобки вопрос о том, следует ли рассматривать агентность как совокупность когнитивных и некогнитивных характеристик или их сочетание, подчеркнем, что формирование этого элемента человеческого капитала представляет собой самостоятельную образовательную задачу.
Активная самостоятельность имеет ключевое значение для редизайна рабочих мест, имплементации новых технологических решений в трудовую деятельность. С необходимостью самим изобретать новые способы и инструменты работы в ближайшие годы столкнутся не только профессиональные предприниматели, но и любой занятый. Как показал проведенный ВЭФ опрос международного бизнеса [WEF, 2018], крупнейшие мировые работодатели не планируют тотального переобучения своих сотрудников для их адаптации к новым требованиям в условиях растущей конкуренции и снижения темпов экономического роста. Корпоративный сектор готов инвестировать в повышение квалификации лишь наиболее производительных работников, причем рассчитывает на их собственную инициативу. Для остальной рабочей силы все более вероятной становится перспектива временных форм занятости — фриланса [Upwork Global, 2017, р. 13]. Оставаться эффективным в этих условиях позволит лишь способность самостоятельно выстраивать сети деловых отношений, круг персональных партнерств, а потому активная самостоятельность, агентность становится важнейшим измерением человеческого капитала в глобальной конкуренции XXI в.
Системы образования большинства стран остаются недостаточно восприимчивыми к разработкам в области теории человеческого капитала, будь то результаты исследований Ханушека о важности когнитивных навыков или выводы Хекмана о значении личностных некогнитивных характеристик. Инертность в совершенствовании соответствующих элементов человеческого потенциала отражается, в частности, в низких темпах роста и социально-экономического развития, несмотря на повышение формальных показателей в образовательной сфере. Сохранение этой тенденции может уже в самом недалеком будущем привести к усилению негативной динамики традиционных индикаторов состояния экономики ряда современных государств (тем
пов роста ВВП, безработицы, преступности и т. и.) и субъективного восприятия их гражданами уровня несправедливости в обществе, что в свою очередь чревато социальным напряжением. Основные группы риска здесь: недостаточно квалифицированное занятое население, которое лишится привычных рабочих мест в корпоративном секторе и будет обречено на поиски себя во фрилансе, к чему их никто не готовил; работники, обученные выполнению рутинных операций и не приспособленные к нерутинной реальности.
Для того чтобы спустя несколько десятилетий не оказаться на обочине глобальной конкуренции, начать работу по развитию национального человеческого капитала следует уже сегодня. Некоторые конкретные меры реформирования российского образования, необходимые в кратко- и среднесрочной перспективе, были сформулированы нами в одной из недавних работ [Кузьминов, Фрумин, 2018]. Остается надеяться, что настоящая статья послужит расширению горизонта и масштабов обсуждения проблематики человеческого капитала в образовании.
Авторы выражают глубокую признательность и благодарность следующим коллегам за их комментарии в ходе подготовки настоящей публикации: А.Г. Асмолову, А.Б. Повалко, П.Г. Щедровицкому, В.Е. Гимпельсону, С.Г. Косарецкому, И.А. Коршунову, И.В. Абанкиной.
Библиография
Аникин В.А. (2017) Человеческий капитал: становление концепции и основные трактовки // Экономическая социология. Т. 18. №4. С. 120-156.
Асмолов А.Г. (2015) Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия // Психологические исследования: электронный научный журнал. Т. 8. № 40. Режим доступа: https://psystudy.ru/num/2015v8n40/!109-asmolov40, дата обращения 21.03.2019.
Асмолов А.Г. (2017) Установочные эффекты как предвидение будущего: историко-эволюционный анализ // Российский журнал когнитивной науки. Т. 4. № 1. С. 26-32.
Биляк Т.А., Вишневская Н.Т., Гимпельсон В.Е. (2011) Российский работник: образование, профессия, квалификация / Под ред. Р.И. Капелюшникова, В.Е. Гимпельсона. М.: НИУ ВШЭ.
Гимпельсон В.Е. (2016) Нужен ли российской экономике человеческий капитал? Десять сомнений // Вопросы экономики. № 10. С. 129-143.
Гимпельсон В.Е. (2018) Трансформации российского человеческого капитала // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. № 2. С. 170- 198.
Диденко Д.В. (2015) Интеллектуалоемкая экономика: человеческий капитал в российском и мировом социально-экономическом развитии. СПб.: Алетейя.
Духон А.Б., Зиньковский К.В., Образцова О.И., Чепуренко А.Ю. (2018) Влияние программ предпринимательского образования на развитие малого бизнеса в России: опыт эмпирического анализа в региональном контексте // Вопросы образования. № 2. С. 139-172.
Капелюшников Р.И. (2012) Сколько стоит человеческий капитал России. М.: НИУ ВШЭ.
Карпов А.О. (2018) Возможен ли университет 3.0 в России? // Социологические исследования. № 9. С. 59-70.
Клячко Т. (2017) Последствия и риски реформ в российском высшем образовании. М.: ИД ДЕЛО.
Кузьминов Я.И, Фрумин И.Д. (2018) Двенадцать решений для нового образования: Доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики / Под общ. ред. Я.И. Кузьминова, И.Д. Фрумина. М.: НИУ ВШЭ.
Ли И. (2017) Фрилансеры из России больше заработали на зарубежных заказах // РБК. 23.11.2017. Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/ll/2017/5a0c03b69a7947d8b623529d, дата обращения 17.02.2019.
Минобрнауки (2016) Мониторинг трудоустройства выпускников. Режим доступа: https://vo.graduate.edu.ru/#/?year=20158ryear_monitoring=2016, дата обращения 11.02.2019.
НАФИ (2017) Фрилансеров в России уже 18%. Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/frilanserov-v-rossii-uzhe-18/, дата обращения 11.02.2019.
Радаев В.В. (2002) Еще раз о предмете экономической социологии // Экономическая социология. Т. 3. № 3. С. 21-34.
Рощин С., Рудаков В. (2015) Измеряют ли стартовые заработные платы выпускников качество образования? Обзор российских и зарубежных исследований // Вопросы образования. № 1. С. 138-168.
Самофалова Ю. (2016) Российские заводы вынуждены сами готовить себе инженеров // Взгляд. 18.09.2016. Режим доступа: https://vz.ru/economy/2016/9/18/832755.html, дата обращения 15.06.2018.
Фрумин И., Добрякова М., Баранников К., Реморенко И. (2018) Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьного образования. Серия «Современная аналитика образования». № 2 (19). М.: НИУ ВШЭ. Режим доступа: https://ioe.hse.ru/data/2018/07/12/1151646087/2_19.pdf, дата обращения 18.04.2019.
Acemoglu D., Aghion Р., Zilibotti F. (2006) Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth // Journal of the European Economic Association. Vol. 4. № 1. P. 37-74.
Acemoglu D., Gallego F.A., Robinson J.A. (2014) Institutions, human capital, and development // Annual Review of Economics. Vol. 6. № 1. P. 875-912.
Acemoglu D., Restrepo P. (2018) The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment // American Economic Review. Vol. 108. № 6. P. 1488-1542.
Agenor Р.-R., Canute О., Jelenic М. (2012) Avoiding Middle-Income Growth Traps. Washington, D.C.: World Bank. Режим доступа: https://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP98.pdf, дата обращения 22.03.2019.
Archer M.S. (2012) The reflexive imperative in late modernity. Cambridge: Cambridge University Press.
Archer M.S. (ed.) (2013) Social morphogenesis. Heidelberg; New York; Dordrecht; London: Springer.
Arnold J., Clarke D.J. (2014) What is ‘agency? Perspectives in science education research // International Journal of Science Education. Vol. 36. № 5. P. 735-754.
Arvidsson A. (2018) Value and virtue in the sharing economy // The Sociological Review. Vol. 66. № 2. P. 289-301.
Barber M., Chijioke C., Mourshed M. (2011) How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better. London: McKinsey.
Barrick M.R., Mount M.K. (1991) The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis // Personnel Psychology. Vol. 44. № 1. P. 1-26.
Bauman Z. (2005) Liquid life. Cambridge: Polity.
Baumol WJ. (2012) The cost disease: Why computers get cheaper and health care doesn’t. New Haven, CT: Yale University Press.
Beaudry P., Green D., Sand B. (2016) The great reversal in the demand for skill and cognitive tasks // Journal of Labor Economics. Vol. 34. № 1. P. 199-247.
Becker G.S. (1962) Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis // The Journal of Political Economy. Vol. 70. № 5. P. 9-49.
Becker G.S. (2009) Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago: University of Chicago Press.
Benavot A., Riddle P. (1988) The Expansion of Primary Education, 1870-1940: Trends and Issues // Sociology of Education. Vol. 61. № 3. P. 191-210.
Bessen J.E. (2016) How computer automation affects occupations: Technology, jobs, and skills. Boston University School of Law, Law and Economics Research Paper № 15-49. Boston, MA: Boston University.
Birkinshaw J. (1997) Entrepreneurship in Multinational Corporations: The Characteristics of Subsidiary Initiatives // Strategic Management Journal. Vol. 18. № 3. P. 207-229.
Blaug M. (1972) The correlation between education and earnings: What does it signify? // Higher Education. Vol. 1. № 1. P. 53-76.
Blaug M. (1992) The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Bosio G., Minola T, Origo E, Tomelleri S. (eds.) (2018) Rethinking Entrepreneurial Human Capital: The Role of Innovation and Collaboration. Heidelberg; New York; Dordrecht; London: Springer.
British Council (2012) The shape of things to come: Higher education global trends and emerging opportunities to 2020. London: British Council. Режим доступа: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_shape_of_things_to_come_-_higher_education_global_trends_and_emerging_opportunities_to_2020.pdf, дата обращения 16.11.2018.
Brynjolfsson Е., Rock D., Syverson C. (2018) Artificial intelligence and the modern productivity paradox: A clash of expectations and statistics // The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda / Eds. A. Agrawal, J. Gans, A. Goldfarb. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, Inc. P. 23-57.
Cantwell B., Marginson S., Smolentseva A. (eds.) (2018) High participation systems of higher education. Oxford: Oxford University Press.
Carfagna L.L. (2018) Learning to share: Pedagogy, open learning, and the sharing economy // The Sociological Review. Vol. 66. № 2. P. 447-465.
Carnoy M., Loyalka P., Dobryakova M., Dossani R., Froumin I., Kuhns K., Jandhyala B., Tilak G., Rong Wang (2013) University expansion in a changing global economy: Triumph of the BRICs?. Stanford, CA: Stanford University Press.
Carolen E, Pastore F. (2017) Overeducation at a glance. Determinants and wage effects of the educational mismatch based on AlmaLaurea data. GLO Discussion Paper Series 15. Geneva: Global Labor Organization (GLO).
Cook C. (2017) The Entrepreneurial Project Manager. Boca Raton, FI: Taylor & Francis Group.
Curtis R.G., Windsor T.D., Soubelet A. (2015) The relationship between Big-5 personality traits and cognitive ability in older adults - A review // Aging, Neuropsychology, and Cognition. Vol. 22. № 1. P. 42-71.
Deloitte (2017) Human Capital Global Trends 2017. London: Deloitte University Press. Режим доступа: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/ce-global-human-capital-trends.pdf, дата обращения 12.03.2019.
Deng Z., Gopinathan S. (2016) PISA and high-performing education systems: Explaining Singapore’s education success // Comparative Education. Vol. 52. № 4. P. 449-472.
Denison E.F. (1962) The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us. New York: Committee for Economic Development.
Denison E.F. (1966) Measuring the Contribution of Education to Economic Growth // The Economics of Education: Proceedings of a Conference held by the International Economic Association / Eds. E.A.G. Robinson, J.E. Vaizey. Barcelona: International Economic Association. P. 202-260.
Dürkheim E. (2006) Dürkheim: Essays on morals and education. Vol. 1. New York: Taylor & Francis.
Eesley C.E., Miller WE (2018) Impact: Stanford University’s Economic Impact via Innovation and Entrepreneurship // Foundations and Trends in Entrepreneurship. Vol. 14. № 2. P. 130-278. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1561/0300000074, дата обращения 19.04.2019.
Estrin S., Mickiewicz T, Stephan U. (2016) Human capital in social and commercial entrepreneurship // Journal of Business Venturing. Vol. 31. № 4. P. 449-467.
Fligstein N. (2008) Fields, Power, and Social Skill: A Critical Analysis of the New Institutionalisms // International Public Management Review. Vol. 9. № 1. P. 227-253.
Gazier B. (1998) Employability: Concepts and Policies. Berlin: European Employment Observatory.
Gibby R.E., Zickar M.J. (2008) A history of the early days of personality testing in American industry: An obsession with adjustment // History of Psychology. Vol. 11. № 3. P. 164-184.
Giddens A. (2013) The consequences of modernity. New York: John Wiley & Sons.
Goldin C. (2016) Human capital // Handbook of Cliometrics / Eds. C. Diebolt, M. Haupert. Heidelberg; New York; Dordrecht; London: Springer. P. 55-86.
Goolsbee A., Hubbard G., Ganz A. (2019) A Policy Agenda to Develop Human Capital for the Modern Economy. Aspen Institute Policy Paper. Chicago: University of Chicago.
Government of British Columbia (n.d.) British Columbia New Curriculum: Applied Design, Skills, and Technologies. Режим доступа: https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/adst/core/goals-and-rationale, дата обращения 21.02.2019.
Guilbert L., Bernaud J.L., Gouvernet B., Bossier J. (2016) Employability: Review and research prospects // International Journal for Educational and Vocational Guidance. Vol. 16. № 1. P. 69-89.
Gutman L.M., Schoon I. (2018) Aiming high, aiming low, not knowing where to go: Career aspirations and later outcomes of adolescents with special educational needs // International Journal of Educational Research. Vol. 89. P. 92-102.
Hafer R.W., Jones G. (2015) Are entrepreneurship and cognitive skills related? Some international evidence // Small Business Economics. Vol. 44. № 2. P. 283-298.
Handel M.J. (2003) Skills mismatch in the labor market // Annual Review of Sociology. Vol. 29. № 1. P. 135-165.
Hanushek E.A. (1986) The economics of schooling: Production and efficiency in public schools // Journal of Economic Literature. Vol. 24. № 3. P. 1141-1177.
Hanushek E.A., Woessmann L. (2007) The Role of Education Quality in Economic Growth. Working Paper WPS4122. Washington, D.C.: World Bank.
Hanushek E.A., Woessmann L. (2008) The role of cognitive skills in economic development // Journal of Economic Literature. Vol. 46. № 3. P. 607-668.
Hanushek E.A., Woessmann L. (2010) The high cost of low educational performance: The long-run economic impact of improving PISA outcomes. Paris: OECD.
Hardy C., Maguire S. (2017) Institutional entrepreneurship and change in fields // The Sage Handbook of Organizational Institutionalism / Eds. R. Greenwood, C. Oliver, T.B. Lawrence, R. Meyer. Thousand Oaks, GA: Sage P. 261-280.
He Q., von Davier M., Greiff S., Steinhauer E.W, Borysewicz P.B. (2017) Collaborative Problem Solving Measures in the Programme for International Student Assessment (PISA) // Innovative Assessment of Collaboration / Eds. A. von Davier, M. Zhu, P. Kyllonen. Heidelberg; New York; Dordrecht; London: Springer. P. 95-111.
Heckman J.J., Kautz T. (2012) Hard evidence on soft skills // Labour Economics. Vol. 19. № 4. P. 451-464.
Hesmondhalgh D., Baker S. (2010) Avery complicated version of freedom: Conditions and experiences of creative labour in three cultural industries // Poetics. Vol. 38. № 1. P. 4-20.
ILO (2018) World Employment and Social Outlook: Trends 2018. Geneva: International Labour Office (ILO).
Jensen B. (2012) Catching up: Learning from the best school systems in East Asia. Summary report. Melbourne: Grattan Institute.
Jong J.P.D., Parker S.K., Wennekers S., WuC.H. (2015) Entrepreneurial behavior in organizations: Doesjob design matter? //Entrepreneurship Theory and Practice. Vol. 39. № 4. P. 981-995.
Judge T.A., Higgins C.A., Thoresen C.J., Barrick M.R. (1999) The big five personality traits, general mental ability, and career success across the life span // Personnel Psychology. Vol. 52. № 3. P. 621-652.
Kamens D.H. (2015) A maturing global testing regime meets the world economy: Test scores and economic growth, 1960-2012 // Comparative Education Review. Vol. 59. № 3. P. 420-446.
Kautz T., Heckman J.J., Diris R., Ter Weel B., Borghans, L. (2014) Fostering and measuring skills: Improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success. NBER Working Paper w20749. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Kirkham P., Mosey S. (2017) How to build an entrepreneurial organization // Building an Entrepreneurial Organisation / Eds. P. Kirkham, H. Noke, S. Mosey. New York: Routledge. P. 1-20.
Klees S.J. (2016) Human Capital and Rates of Return: Brilliant Ideas or Ideological Dead Ends? // Comparative Education Review. Vol. 60. № 4. P. 644-672.
Komatsu H., Rappleye J. (2017a) A new global policy regime founded on invalid statistics? Hanushek, Woessmann, PISA, and economic growth // Comparative Education. Vol. 53. № 2. P. 166-191.
Komatsu H., Rappleye J. (2017b) A PISA paradox? An alternative theory of learning as a possible solution for variations in PISA scores // Comparative Education Review. Vol. 61. № 2. P. 269-297.
Kroll A.M. (1976) Career educations impact on employability and unemployment: Expectations and realities // Vocational Guidance Quarterly. Vol. 24. № 3. P. 209-218.
Kucel A., Robert P., Bull M., Masferrer N. (2016) Entrepreneurial Skills and Education — Job Matching of Higher Education Graduates // European Journal of Education. Vol. 51. № 1. P. 73-89.
Lange E, Topel R. (2006) The Social Value of Education and Human Capital // Handbook of the Economics of Education. Vol. 1 / Eds. E. Hanushek, F. Welch. Amsterdam: Elsevier. P. 459-509.
Lange G.M., Wodon Q., Carey K. (eds.) (2018) The changing wealth of nations 2018: Building a sustainable future. Washington, D.C.: World Bank.
Levy E, Murnane R.J. (2004) Education and the Changing Job Market // Educational Leadership. Vol. 62. № 2. P. 80-84.
Levy E, Murnane R.J. (2013) Dancing with robots: Human skills for computerized work. Washington, D.C.: Third Way NEXT.
Li Y, Rama M. (2013) Firm Dynamics, Productivity Growth and Job Creation in Developing Countries. The Role of Micro- and Small Enterprises. Background Paper for the World Development Report. Washington, D.C.: World Bank.
Liker J. (2001) The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer. New York: McGraw Hill.
Ling Y.H., Jaw 8.8. (2006) The influence of international human capital on global initiatives and financial performance // The International Journal of Human Resource Management. Vol. 17. № 3. P. 379-398.
Looi C.K., Lim K.F., Pang J., Koh A.L.H., Seow P., Sun D., Boticki L, Norris C., Soloway E. (2016) Bridging formal and informal learning with the use of mobile technology // Future Learning in Primary Schools — A Singapore Perspective / Eds. C.S. Chai, C.P. Lim, C.M. Tan. Singapore: Springer. P. 79-96.
Loyalka P., Liu O.L., Li G., Chirikov L, Kardanova E., Gu L., Ling G., Yu N., Guo E, Ma L., Hu S., Johnson A.S., Bhuradia A., Khanna S., Froumin L, Shi J., Choudhur P.K., Beteille T., Marmolejo E, Tognattal N. (2019) Computer science skills across China, India, Russia, and the United States // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 116. № 14. P. 6732-6736. Режим доступа: https://doi.org/10.1073/pnas.1814646116, дата обращения 23.04.2019.
Ludger W. (2015) Universal Basic Skills What Countries Stand to Gain: What Countries Stand to Gain. Paris: OECD.
Lundvall B.-Ä. (ed.) (2010) National systems of innovation: Toward a theory of innovation and interactive learning. Vol. 2. London; New York; Melbourne; Delhi: Anthem Press.
Macleod C. (2016) John Stuart Mill // Stanford Encyclopedia of Philosophy. Режим доступа: https://plato.stanford.edu/entries/mill/, дата обращения 24.02.2019.
Manyika J., Woetzel J., Dobbs R., Remes J., Labaye E., Jordan A. (2015) Can long-term global growth be saved. New York: McKinsey Global Institute.
Marginson S. (2019) Limitations of human capital theory // Studies in Higher Education. Vol. 44. № 2. P. 287-301. DOI: 10.1080/03075079.2017.1359823.
Marshall A. (1890) Principles of Economics. London: MacMillan.
Martin B.C., McNally J. J., Kay M.J. (2013) Examining the formation ofhuman capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes // Journal of Business Venturing. Vol. 28. № 2. P. 211-224.
McCord J. (1978) A thirty-year follow-up of treatment effects // American Psychologist. Vol. 33. № 3. P. 284-289.
McGuinness S., Pouliakas K., Redmond P. (2018) Skills mismatch: Concepts, measurement and policy approaches // Journal of Economic Surveys. Vol. 32. № 4. P. 985-1015.
Meyer J.W (2010) World society, institutional theories, and the actor // Annual Review of Sociology. Vol. 36. P. 1-20.
Meyer J.W, Ramirez F.O., Soysal YN. (1992) World expansion of mass education, 1870-1980 // Sociology of Education. Vol. 65. № 2. P. 128-149.
Mincer J. (1962) On-the-job Training: Costs, Returns, and Some Implications // The Journal of Political Economy. Vol. 70. № 5. P. 50-79.
Mincer J. (1974) Schooling, Experience, and Earnings. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Mourshed M., Chijioke C., Barber M. (2010) How the world’s most improved school systems keep getting better. New York: McKinsey.
Myers P. (2004) Max Weber: Education as academic and political calling // German Studies Review. Vol. 27. № 2. P. 269-288.
NAE (2014) National Core Curriculum for Basic Education 2014. Helsinki: Finnish National Agency of Education. Режим доступа: https://verkkokauppa.oph.fi/EN/page/product/national-core-curriculum-for-basic-education-2014/2453039, дата обращения 12.03.2019.
Neck H.M., Greene P.G. (2011) Entrepreneurship education: Known worlds and new frontiers // Journal of Small Business Management. Vol. 49. № 1. P. 55-70.
Ng-Knight T., Schoon I. (2017) Can locus of control compensate for socioeconomic adversity in the transition from school to work? // Journal of Youth and Adolescence. Vol. 46. № 10. P. 2114-2128.
North D. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
OECD (2001) The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital. Paris: OECD.
OECD (2018) Education 2030: The Future of Education and Skills. Paris: OECD.
Oosterbeek H., Van Praag M., Ijsselstein A. (2010) The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation // European Economic Review. Vol. 54. № 3. P. 442-454.
Piazza-Georgi B. (2002) The role ofhuman and social capital in growth: Extending our understanding // Cambridge Journal of Economics. Vol. 26. № 4. P. 461-479.
Piketty T., Zucman G. (2014) Capital is back: Wealth-income ratios in rich countries 1700-2010 // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 129. №3.P. 1255-1310.
Pons X. (2012) Going beyond the ‘PISA shock’discourse: An analysis of the cognitive reception of PISA in six European countries, 2001- 2008 // European Educational Research Journal. Vol. 11. № 2. P. 206-226.
Pritchett L. (2001) Where has all the education gone? // World Bank Economic Review. Vol. 15. № 3. P. 367-391.
Psacharopoulos G., Patrinos H.A. (2018) Returns to investment in education: A decennial review of the global literature // Education Economics. Vol. 26. № 5. P. 445-458. DOI: 10.1080/09645292.2018.1484426.
Ramirez F.O., Luo X., Schofer E., Meyer J.W. (2006) Student achievement and national economic growth // American Journal of Education. Vol. 113. № 1. P. 1-29.
Reeve J. (2013) How students create motivationally supportive learning environments for themselves: The concept of agentic engagement // Journal of Educational Psychology. Vol. 105. № 3. P. 579-595.
Reeve J., Tseng CM. (2011) Agency as a fourth aspect of students’ engagement during learning activities // Contemporary Educational Psychology. Vol. 36. № 4. P. 257-267.
Reimers F.M., Chung C.K. (eds.) (2019) Teaching and learning for the twenty-first century: Educational goals, policies, and curricula from six nations. Cambridge, MA: Harvard Education Press.
Ritchie H., Roser M. (2019) World after Capital - Empirical Data and Visualisations. Режим доступа: https://ourworldindata.org/world- after-capital-data-and-viz, дата обращения 04.05.2019.
Rodriguez-Planas N. (2010) Mentoring, educational services, and economic incentives: Longer-term evidence on risky behaviors from a randomized trial. IZA Discussion Paper 4968. Bonn: Institute of Labor Economics.
Romer P.M. (1990a) Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. Vol. 98. № 5. Part 2. P. 71-102.
Romer P.M. (1990b) Human Capital and Growth: Theory and Evidence // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. Vol. 32. P. 251-286.
Rosenberg N., Birdzell L. (1986) How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World. New York: Basic Books.
Roser M., Ortiz-Ospina E. (2019a) Financing Education. Режим доступа: https://ourworldindata.org/financing-education, дата обращения 07.05.2019.
Roser М., Ortiz-Ospina Е. (2019b) Global Rise of Education. Режим доступа: https://ourworldindata.org/financing-education, дата обращения 07.05.2019.
Salvendy G. (1969) Learning fundamental skills — A promise for the future // AIIE Transactions. Vol. 1. № 4. P. 300-305.
Schofer E., Meyer J.W (2005) The worldwide expansion of higher education in the twentieth century // American Sociological Review. Vol. 70. № 6. P. 898-920.
Schultz T.W (1960) Capital Formation by Education // The Journal of Political Economy. Vol. 68. № 6. P. 571-583.
Schultz T.W. (1961) Investment in Human Capital // American Economic Review. Vol. 51. № 1. P. 1-17.
Schultz T.W. (1975) The value of the ability to deal with disequilibria// Journal of Economic Literature. Vol. 13. № 3. P. 827-846.
Schultz T.W. (1978) Prize Lecture // NobelPrize.org. Режим доступа: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1979/schultz/lecture/, дата обращения 22.03.2019.
Simola H (2005) The Finnish miracle of PISA: historical and sociological remarks on teaching and teacher education // Comparative Education. Vol. 41. № 4. P. 455-470.
Smith A. (1937) The Wealth of Nations. New York: Modern Library.
Soysal Y.N., Strang D. (1989) Construction of the first mass education systems in nineteenth-century Europe // Sociology of Education. Vol. 62. № 4. P. 277-288.
Stankov L. (2018) Low Correlations between Intelligence and Big Five Personality Traits: Need to Broaden the Domain of Personality // Journal of Intelligence. Vol. 6. № 2. P. 26-38.
Suzuki Y. (2016) Japanese Management Structures, 1920-80. Heidelberg; New York; Dordrecht; London: Springer.
Sweetland S.R. (1996) Human capital theory: Foundations of a field of inquiry// Review of Educational Research. Vol. 66. № 3. P. 341-359.
Tan E. (2014) Human Capital Theory: A Holistic Criticism // Review of Educational Research. Vol. 84. № 3. P. 411-445. Режим доступа: https://doi.org/10.3102/0034654314532696, дата обращения 16.01.2019.
Tanzi V, Schuknecht L. (2000) Public spending in the 20th century: A global perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Telling K. (2018) Selling the liberal arts degree in England: Unique students, generic skills and mass higher education // Sociology. Vol. 52. № 6. P. 1290-1306.
Udehn L. (2002) The changing face of methodological individualism // Annual Review of Sociology. Vol. 28. № 1. P. 479-507.
Udy S.H. (1959) ‘Bureaucracy’ and ‘Rationality’ in Weber’s Organization Theory: An Empirical Study // American Sociological Review. Vol. 24. № 6. P. 791-795.
Unger J.M., Rauch A., Frese M., Rosenbusch N. (2011) Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review // Journal of Business Venturing. Vol. 26. № 3. P. 341-358.
Upwork Global (2017) Freelancing in America: 2017. Режим доступа: https://www.upwork.eom/i/freelancing-in-america/2017/, дата обращения 12.02.2019.
Valente А.С., Salavisa I., Lagoa S. (2016) Work-based cognitive skills and economic performance in Europe // European Journal of Innovation Management. Vol. 19. № 3. P. 383-405.
Valletta R.G. (2018) Recent flattening in the higher education wage premium: Polarization, skill downgrading, or both? // Education, Skills, and Technical Change: Implications for Future US GDP Growth. Chicago: University of Chicago Press.
Waldow E, Takayama K., Sung YK. (2014) Rethinking the pattern of external policy referencing: Media discourses over the Asian Tigers’ PISA success in Australia, Germany and South Korea // Comparative Education. Vol. 50. № 3. P. 302-321.
WEF (2017) The Global Human Capital Report. Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf, дата обращения 19.01.2019.
WEF (2018) The Future of Jobs. Режим доступа: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018, дата обращения 19.01.2019.
Woessmann L. (2016) The economic case for education // Education Economics. Vol. 24. № 1. P. 3-32.
World Bank (2019) GDP per capita growth (annual %). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Режим доступа: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=XD ,дата обращения 16.05.2019.
Yao Y. (2019) Does higher education expansion enhance productivity? // Journal of Macroeconomics. Vol. 59. P. 169-194.
Yorke M., Knight P. (2006) Embedding employability into the curriculum. Vol. 3. York (UK): Higher Education Academy.
Zinkina J., Korotayev A., Andreev A. (2016) Mass Primary Education in the Nineteenth Century // Globalistics and Globalization Studies. Vol. 26. P. 63-70.





