Проблема онтогенеза психики
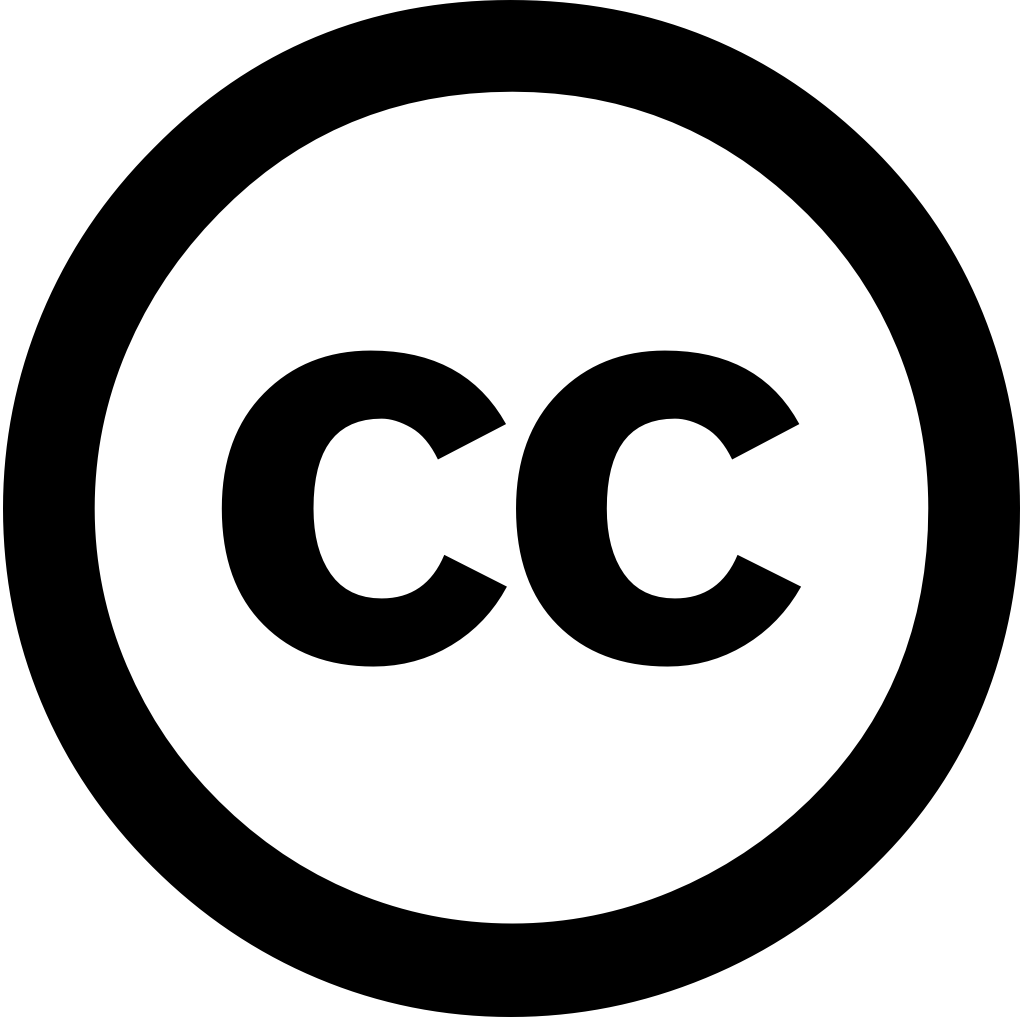

Published: April 1, 2012
Latest article update: Dec. 15, 2022
Abstract
Доклад Петра Яковлевича Гальперина на методологическом семинаре, руководимом А.Н. Леонтьевым 24 марта 1976 г.
Keywords
Онтогенез, психика
Как ставятся вопросы воспитания человека в психологии? Есть две линии в решении этого большого вопроса:
Линия выявления некоторых наследственных индивидуальных врожденных особенностей, так называемых способностей, как интеллектуальных, так и моральных, если не в готовом виде, то в виде задатков этих способностей, которые предопределяют предельные возможности развития личности;
Другая линия идет от Льва Семеновича Выготского, от присутствующего здесь Алексея Николаевича Леонтьева, который способствовал формированию этой линии, и от Сергея Леонидовича Рубинштейна. Согласно этой линии, решающим в психическом развитии человека является построение его психической деятельности как отражения внешней деятельности ребенка, подростка, юноши и т.д. и главными достоинствами психической деятельности являются ее организация и использование своеобразных орудий этой деятельности.
Первая линия - это линия использования естественных биологических особенностей в виде способностей или задатков этих способностей, она чрезвычайно сильна за границей. У нас недавно стажировался один профессор из ФРГ, с которым мы доверительно разговаривали. Он прямо признавался: «Я могу думать, что хочу, но обойти проблему диагностики способностей я не могу, я просто не могу по положению. Я не могу позволить себе рассматривать вопрос об особенностях психической деятельности вне проблемы способностей, для меня это обязательная вещь, иначе я не могу работать». То есть, у них на первом месте стоит не построение, а диагностика того, что уже есть и что может быть. Поэтому он очень интересовался нашими методиками диагностики. Эта линия очень жестко определяет дальнейшую практику. Потому что, если предполагать, что такие способности действительно существуют, все равно, в развитом или неразвитом виде, тогда совершенно рационально ставить задачу выявлять эти способности и для тех, кто обладает ими в значимой степени, создавать особо благоприятные условия. Остальные могут жить, работать и развиваться в обычных средних условиях.
Согласно другой линии, врожденные особенности человеческого мозга, если только они не отличаются патологией, какими-то явными дефектами, которые подлежат установлению уже не психологическому, а медицинскому, то они дают человеку от рождения возможности совершенно не дифференцированного порядка. И в этом смысле очень интересна эволюция понятия задатков, которая произошла в нашей психологии. Вначале понятие задатков - это была такая, очень скромная, уклончивая форма признания того, что что-то такое вроде способностей все-таки есть. Оно не совсем развито, оно может быть развито в разных направлениях, но это все-таки что-то такое от способностей. Но чем дальше, тем больше. В настоящее время есть письменные изложения сторонников этой точки зрения, в которых прямо указывается - то, что называется задатками, - это такого рода особенности, несомненно, индивидуальные и даже, может быть, наследственные особенности, которые по отношению к одной и той же психической деятельности могут играть как положительную, так и отрицательную роль. Раньше понимали так: есть задатки, если для них будут созданы соответствующие условия, то они разовьются в способности; если этих условий не будет создано, способности просто не разовьются.
Но все равно, задатки - это как бы зерна будущих растений: зерно - не растение, но все-таки из него вырастет только растение определенного вида. А сейчас понимают по другому. Имеется какая-то область, например, область музыкальных способностей (между прочим, музыкальные способности - одна из наиболее ярких и всеми признаваемых форм врожденных способностей) или область математических способностей (тоже раньше признавались наиболее очевидными врожденными способностями) и вы имеете особенно благоприятные условия для развития этой области. При этом развитие зависит от того, что ляжет на эти условия, то есть, от того, какая деятельность будет сформирована на этих условиях. Причем сплошь и рядом оказывается, что вы имеете бесспорные, и я даже сказал бы, исключительные способности, которые, однако, приводят к совершенной неспособности в этой области. Проиллюстрирую это на примере, который мне недавно пришлось наблюдать, и который представляет собой действительно трагический случай. Речь идет о мальчике, который в 5 лет играет вещи Прокофьева, такие вещи, как «Ромео и Джульетта». Это трудновообразимо. Причем этот малыш не охватывает клавиатуру и поэтому бегает возле пианино, он не может вовремя и как следует нажать на педаль, и поэтому руками работает здесь, а нажимает педаль в другом месте. Мальчик обладает настолько плохим зрением, что он вообще не читает с нот, он запоминает все на слух, причем запоминает таким образом: ему проигрывают сложную вещь в магнитофонной записи, и он ее запоминает после одного или двух проигрываний максимум. Это, конечно, феноменально. Его демонстрировали уже несколько раз по телевидению. Нас пригласили туда посмотреть на этого мальчишку. Впечатление от него по-своему потрясающее. Вместе с тем, это уже конченый мальчик, ничего из него не получится. Его родители, которые его очень любят и чрезвычайно много им занимаются, сами не музыканты. Все, что они делают - это покупают ему пластинки, уделяют ему колоссальное время. Они любят музыку и прививают ему любовь к музыке, но они не вырабатывают форм, пригодных для его дальнейшего музыкального движения. Я слышал, как он исполняет часть из «Ромео и Джульетты», и на меня это произвело оглушительное, совершенно ужасное впечатление. Конечно, поражает его необыкновенная музыкальная память и двигательные возможности. Но он уже не хочет учиться, понимаете! Когда ему предлагают начать учиться сначала, он не хочет - он думает, что уже все умеет! Но он не играет, он тарабанит. Если он будет продолжать так делать, музыкант из него не получится. Для него на переднем плане стоит задача оттарабанить эту сложную вещь. Она действительно сложная, трудная, играет он ее только на слух. С одной стороны, это феноменально, а с другой стороны - отсюда же нет движения. Мальчик не хочет учиться, он никого не признает. Он считает, что ему нельзя начинать учиться, что ему уже надо учиться где-то дальше. В то время как раз, наоборот, этому мальчику нужно начать с самых азов. Он не музыкален: играя такую замечательную вещь, он имеет главную задачу - скорее ее оттарабанить. Это ребенок, у которого есть действительно большие данные. Если бы они были использованы такими родителями, какие были у Моцарта или у Бетховена, то есть музыкантами, которые с самого начала взялись бы воспитывать из этого ребенка музыканта, то эти данные могли бы достаточно развиться. Отец Моцарта был очень крупный в свое время музыкант и еще более крупный педагог. А если вы имеете такие исключительные возможности, но на них накладываются неблагоприятные формы внешней деятельности, то получается что-то такое, что можно продемонстрировать как феномен, но никакого развития произойти не может.
Другой пример я тоже видел сам. Нормальное развитие счетных способностей начинается со счета внешних объектов. Это совершенно естественно, и с этого нужно начинать. Я видел девочку в шестом классе, которая продолжала считать на пальцах, если ей сжать пальцы, то она не могла дальше считать. Ну как же она может вообще продвинуться в математическом отношении!
Дело в том, что если вы имеете самое благоприятное расположение каких-то биологических, анатомо-физиологических особенностей, но на них не ложатся правильные формы соответствующей внешней деятельности, то результат может получиться гораздо хуже, чем, если бы этих способностей не было вообще. Ребенок не фиксировался бы на ранних или просто ложных формах выполнения той же самой деятельности. Здесь имеются индивидуальные различия, которые могут быть очень значительны. Но сами по себе они не определяют того, как сложится психическая деятельность определенного порядка и каким вообще будет развитие данной личности. Лев Семенович Выготский и Сергей Леонидович Рубинштейн настаивали на том, что конкретные формы психической деятельности складываются прижизненно. И все дело заключается в том, как они сложатся. Обычно они складываются на среднем уровне, который стихийно устанавливается в данном обществе на сегодняшний день. Это обычно дает такую картину: некоторое среднее развитие, и, как всегда при больших числах, отклонения от среднего развития - в плюс поменьше, и в минус - побольше.
А мы, которые сознательно (а по большей части бессознательно) воспитываем эту деятельность, умели ли мы ее воспитывать? Знаем ли мы, что это такое, как она построена? И как ее нужно строить? Вот от этого зависит собственно психическое развитие. Если это так, тогда мы знаем, на что направить наше исследование, и тогда наше исследование имеет прямое практическое значение. Тогда мы знаем, кого мы можем сделать из каждого нормального человека. Все это рассуждения, а время течет, и поэтому хочу вам просто рассказать об одной такой возможности, которая, может быть, будет более убедительна, чем всякие длительные теоретические соображения.
На меня самого, на мое психологическое мировоззрение наибольшее влияние оказали не книжки, а три фактора.
Первый - рассказы покойного Ивана Афанасьевича Соколянского о том, как он воспитывал слепоглухонемых детей. Это для меня незабываемая учеба, если хотите. Нужно сказать, что Соколянский был очень своеобразный человек. Он не умел писать, он совершенно не умел выступать. Как он взойдет на такую торжественную кафедру, так начинает сыпать штампами, один штамп за другим. Но в камерной обстановке он совершенно изумительно рассказывал о том, как происходит очеловечивание, и с чем он встречался, когда ему привозили из глухих деревень слепоглухонемых детей, что они такое, и во что потом они превращались, и что главное в этом превращении.
Второй, несколько аналогичный, - это мои впечатления от такого заведения, которого, к сожалению, после войны уже не существует. В Ленинграде до Отечественной войны была замечательная Клиника нормального детского развития. В эту клинику принимались только подкидыши - брошенные дети: восемь человек - младшая группа до 1,5 лет и старшая группа - до 3 лет, а в 3 года происходил выпуск закончивших это высшее учреждение. Это было учреждение, которым руководил Николай Матвеевич Щелованов (еще живой), и в котором работал целый ряд замечательных людей. Причем очень интересно, что начали эти люди с таких, я бы сказал (прошу извинить меня, все-таки яркое такое выражение, мы тогда пользовались этим выражением между собой), с «собачьих» установок. Это была середина, конец 20-х годов - начало 30-х годов. Вовсю действовала рефлексология бехтеревского типа. Это были ученики Бехтерева, они вообще считали: в чем заключается обучение и воспитание? В воспитании условных рефлексов. А на чем нужно воспитывать эти условные рефлексы? - Их надо воспитывать на подкреплении. Ну, а какое может быть подкрепление у новорожденного? Что вы ему рассказывать будете что-нибудь? - Нет. Кормить. Значит, решили, что надо воспитывать у него человеческие черты на кормлениях: поведешь себя как следует - тебя покормят; не поведешь себя как следует, значит, тебя хуже покормят, а то и совсем не покормят, по крайней мере, в тот момент, когда полагается. И вот представьте себе, ничего у них не получилось. Ничего! И нужно отдать им честь, что они не теоретизировали, они решили: раз ничего не получается, значит нужно что-то делать иначе. И вот как они иначе действовали. Тут немножко дети им сами подсказали, что нужно делать. Подсказка заключалась вот в чем. Оказывается, что когда маленький ребенок голоден, а вы хотите воспитывать у него какие-то условные рефлексы, то он кричит благим матом и не хочет знать ни про какое ваше обучение. Ничему его научить нельзя, пока он голоден, тем более, что он ведь ничего не может делать, а воспитание условных рефлексов построено на действии ребенка, которое должно подкрепляться. А он ничего не умеет делать, неизвестно, что подкреплять. Он орет, и больше ничего. Это единственное, что ребенок может делать, он это и делает. А когда его накормят, он, как смертные люди, соловеет и тем более не хочет знать ни о каких наших проблемах, насчет воспитания. Он поел и ему хочется спать. И тогда они пришли вот к какому очень интересному решению: надо разделить процессы ухода и процессы воспитания. Поэтому они делали таким образом. В период новорожденности к концу 1,5-2-часового периода ребенок немножко устал, его кормят и укладывают спать. Он спит, после этого, конечно, немного о его туалете позаботятся, потому что эти джентельмены тоже желают выглядеть прилично. И вот тогда, когда он выспался, но еще не голоден, его ничего не беспокоит физически - вот тогда, пожалуйста, тогда он готов общаться и развиваться, и образовываться, и т.д, если вы его умеете чему-нибудь научить. Вот они различили этих два рода процессов: процессы ухода и процессы воспитания. Процессы воспитания были построены не на условных пищевых или, тем более, болевых рефлексах, а отдельно. И главным моментом было установление хорошего контакта с ребенком. У нас был такой опыт, это печальный опыт, невольный, когда за детьми ухаживали, следили за их физическим состоянием, за их кормлением, и считали так: тебе все сделали, ну не ленись, развивайся теперь сам. Тогда они не развиваются; они лежат, погружаются в какое-то полудремотное состояние - и ничего, никакой активности. Надо, оказывается, вызвать у них активность. Эту активность нужно создавать, она не является врожденным началом. Наоборот, когда эти дети залеживаются, один из труднейших моментов заключается в том, чтобы вступить с таким ребенком в контакт. Вы к нему подходите с самыми лучшими намерениями, он кричит благим матом, чтобы вы к нему не приставали. Потому, что он так уже привык к этому состоянию дремотной пассивности, что сопротивляется выходу из этого состояния. Началом собственно человеческого развития является вот этот положительный контакт со взрослым и затем все то, что вы во время этого положительного контакта можете с этим ребенком постепенно вырабатывать. Между прочим, в Клинике нормального детского развития был такой момент: они, как правило, не брали детей старше нескольких дней от рождения. Тоже интересная вещь. Оказывается, они убедились в том, что если взять ребенка, ну скажем, месяц-полтора после рождения (подумайте, что там могло произойти за полтора месяца) он уже, оказывается, другой, его уже труднее воспитать. И они брали детей только нескольких дней от рождения. И с этими младенцами дважды в день велись уроки речи. Причем, оказалось, что нельзя эти уроки поручать среднему персоналу, не говоря уже о младшем; потому что средний персонал считает: он же ни черта не понимает, о чем с ним говорить! Поэтому пришлось на это дело ставить только доцентов. Те тоже, наверное, чувствовали, что он ничего не понимает, но у тех «из головы» было понятие того, что надо активно вызывать такого младенца на общение и заставлять его себя слушать. Говорить вы можете, что хотите в это время, в первое время, но говорить надо приятно, с улыбкой, все время вызывая внимание на себя, чтобы ребенку было приятно иметь дело с вами. Казалось бы, там до речи еще далеко. А оказывается, что разговор с таким ребенком создает потом чрезвычайную восприимчивость к речи, когда наступает период говорения. Они гораздо лучше, гораздо раньше начинают говорить, а речевое общение, как вы сами понимаете, для человека имеет очень большое значение. Это второе обстоятельство.
А третье обстоятельство присутствует в виде Алексея Николаевича, через которого я собственно улавливал основные положения Льва Семеновича Выготского. Я был знаком с ним, но шапочно; я встречался с ним, но мало, поверхностно. Мое знакомство с Выготским и мое вхождение в систему идей Выготского - это шло через Алексея Николаевича, ему я обязан этим. А ведь основная идея Льва Семеновича Выготского, как вы помните, - аналогия между психической деятельностью человека и его орудийной, производственной деятельностью. Это учение о том, что есть орудия психической деятельности в виде знаков всякого рода и, прежде всего, особая и особо развитая система речи; и что овладение этими орудиями перестраивает психическую жизнь человека так же радикально, как использование орудий труда перестраивает естественную, природную деятельность человека. Уже Лев Семенович говорил о роли деятельности. Конечно, дело в том, что эти орудия, эти знаки речи, находятся в системе своеобразной деятельности, в первую очередь - речевой деятельности, в первую очередь, но вовсе не как ведущей, как определяющей. Этот момент потом был особенно выделен, поставлен Алексеем Николаевичем, и был тоже поддержан и также развивался Сергеем Леонидовичем Рубинштейном.
Таким образом, получается резкое противопоставление двух линий развития человека, причем таких его свойств, которые от природы ему, может быть, и не даны. Это наша советская линия исследования и она резко отличается от той линии, которая опирается на какие-то врожденные особенности и, следовательно, наперед заданные способности или задатки способностей. Там речь идет об использовании того, что есть, в то время как наша точка зрения состоит в создании того, что должно быть по проекту, каким мы хотели бы видеть человека.
Я хочу закончить одной небольшой иллюстрацией, некоторых наших исследований, которая показывает, что возможно, причем, возможно на простейших вещах, на начальных вещах, где, казалось бы, мы ничего особенного еще не делаем. Вероятно, многим известно, что мы различаем три типа ориентировки в вещах, и, соответственно этому, три типа учения. Последний из них, третий основан на разъяснении внутренней структуры вещей. В отношении математических понятий это делается так: начинается с задач измерения, вводится понятие меры, которое очень дифференцируется в разных отношениях. Мера есть специфически социальное образование, которое есть только у человека, и к которому относится дифференцированный человеческий опыт. С помощью меры получается разделение разных сторон вещей и преобразование каждого отдельного свойства, каждого параметра в математическое множество, на основе которого формируется потом понятие чисел и т.д. Что тут интересно? Интересны две вещи: одна - что же получается в результате такого обучения? Просто хорошие знания или еще что-то сверх этого? (Что мы, между прочим, раньше не предусматривали). А второе - как такое обучение относится к вопросам мотивации, к нравственной стороне вещей. Что касается первого, то сначала были проведены исследования Людмилой Филипповной Обуховой, которая использовала их для доказательства того, что в результате такого обучения у детей приблизительно около 6 лет формируется обобщенное понятие о так называемом принципе сохранения количества, которое Пиаже считает характерным для конца первого школьного возраста - где-то 10-11 лет. В последнее время под руководством Людмилы Филипповны ее непосредственная ученица Галина Васильевна Бурменская провела следующий эксперимент. Пиаже в настоящее время пытается доказать ведущую роль интеллектуального развития. Таким образом: он проверяет, как ведут себя остальные психические функции, например, восприятие, память, умение в уме действовать с некоторыми представлениями. И как всегда бывает у Пиаже, для каждой области он нашел такие удивительно простые и демонстративные задачи, на решении которых и обнаруживается, произошло изменение в этих областях, соответственно изменению интеллектуальных операций или не произошло. Они (Г.Б.) взяли детишек, которые были обучены самым начальным понятиям арифметики по третьему типу, и провели их по тестам Пиаже. Я продемонстрирую, это только на одном примере - на примере восприятия. Казалось бы так: что видишь - то видишь. Они взяли иллюзию Мюллера-Лайера, вы знаете ее: две горизонтальные линии с угловыми линиями, которые идут и наружу и вовнутрь. Обычно все - и взрослые, и дети видят линию, у которой углы направлены наружу более длинной, чем другую, равную линию, у которой углы направлены вовнутрь. В данном случае они показывали эту иллюзию на миллиметровой бумаге, расчерченной на квадратики. Но миллиметровая бумага была слабая, и на ней была жирно нарисована иллюзия. Детишки, которых учили обычному способу, когда им показывали иллюзии, говорили: «Ну, конечно, что тут говорить, эта линия длинней!» Им говорили: «Ты все-таки так не говори. Ты вот возьми и посчитай квадратики, которые находятся между расходящимися линиями». Они считали квадратики в одной линии, потом в другой линии и говорили: «Да, квадратиков одинаково, а линия эта все-таки длиннее». А ребята, которых мы учили, тоже шестилетки, говорили так: «Кажется, что эта длиннее, но надо проверить». Сначала, прежде всего, - недоверие восприятию. Начинают считать, обнаруживают, что квадратиков между концами линии одинаково и говорят: «Да, кажется, что эта больше, но на самом деле одинаково». Вот вам разное отношение к восприятию. Там есть чудные опыты с мысленным образом, с воспоминаниями. Она (Г.Б.) показала следующее: у детей, воспитанных по третьему типу ориентации, в основных математических характеристиках вещей получается не только приобретение знаний, но и резкий сдвиг в интеллектуальном развитии по показаниям Пиаже. Кроме того, детишки не только больше узнают и глубоко понимают, но и меняется характер их интеллектуального развития; у них рождается другое отношение к предмету. Тогда, когда детей учат как обычно: «Вот это один, а вот это и это много», то большого энтузиазма это не вызывает, как и у каждого из нас. А у наших детей возникает такая ненасытная страсть к измерениям, к определениям величин, что они на переменах начинают этим заниматься, занимаются этим дома, родители на них жалуются, что не дают они им покоя, пристают со всякими математическими вещами. Возникает внутренний интерес к предмету. И это не только на математике, но даже, представьте себе, на таком предмете, как грамматика. К грамматике, да еще в ее школьном изложении (!) - это уже как-то противоестественно, чтобы кто-то испытывал к ней какой-то внутренний интерес. А оказывается, можно так ее подать, что воспитывается интерес к языку. И тогда получается необыкновенная чувствительность к языку, воспитывается «чувство языка», которое переносится на языки совершенно иной конструкции. Скажем, обучали детей русской грамматике, а они оказываются чрезвычайно восприимчивыми к французскому языку, который имеет другую конструкцию.
Так как нужно заканчивать, то я закончу таким образом: та линия советских исследований, которая исходит из представления о том, что конкретное содержание психики и психической деятельности - есть производное индивидуального опыта, который предполагает определенную организацию самой деятельности и определенное использование орудий этой деятельности. От того, как построена эта деятельность и какими орудиями она снабжена, от этого зависят не только операционные возможности человека, но и его отношение к вещам; он иначе воспринимает мир и начинает иначе к нему относиться.





