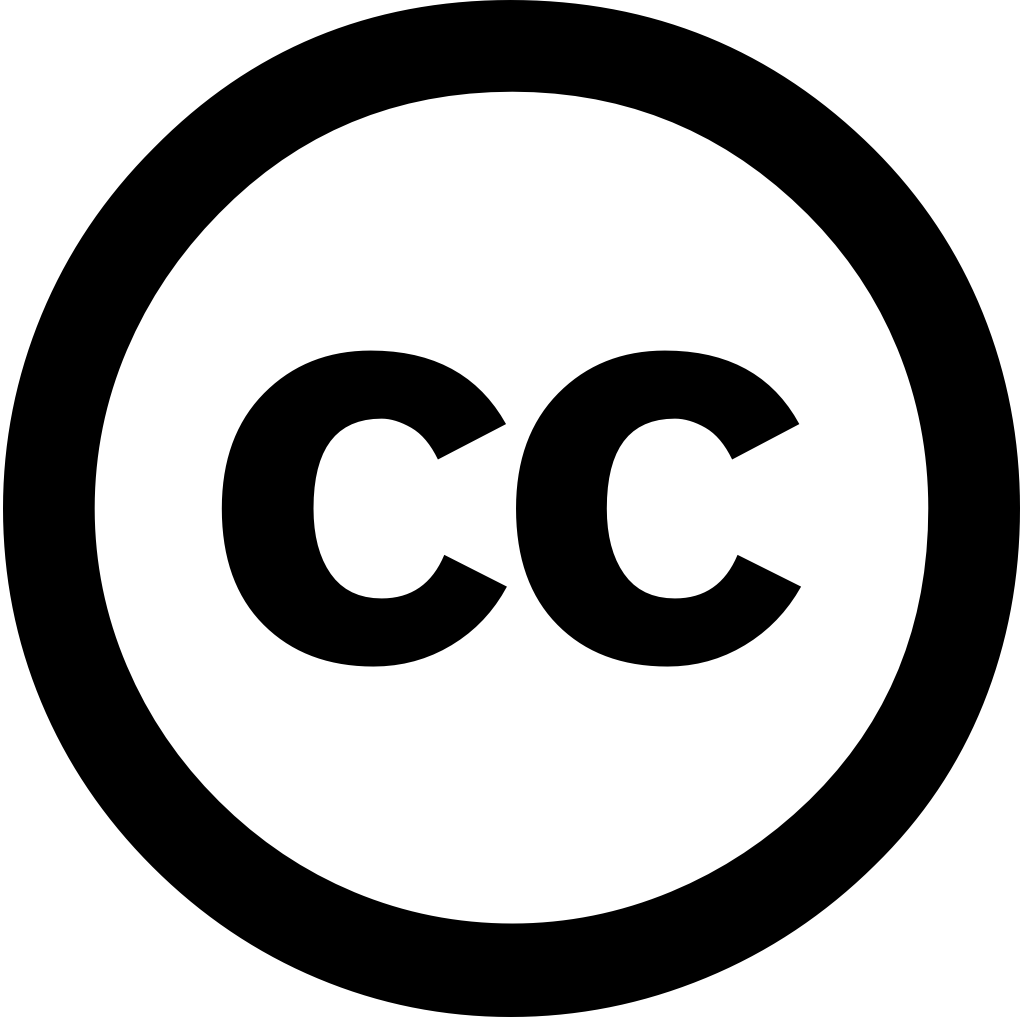Государство и человечество

Неизвестный источник
Published: Aug. 1, 1919
Latest article update: July 15, 2023
Abstract
В настоящей работе И. А. Покровский рассуждает о государстве и личности. Он ставит право выше государства и нравственность выше права. Ученый не допускал возможности совершенного освобождения личности и общества от государственных уз, но верил в то, что рано или поздно будет найдена, даже "зреет управа над государствами". Этой управы он ждал от того коллектива, который стоит над государством — от человечества. В годы гражданской войны он писал о наступлении момента, когда будет создан "общечеловеческий форум" и когда "на этом форуме, перед трибуналом великого суда человечества", помимо целых общественных групп, сможет выступить в качестве истца против своего государства с жалобой на свое попираемое право и отдельный человек.
Keywords
Государство, общественные группы, личность
Посвящается памяти честного рабочего на ниве русского правосознания и
благородного человека Академика МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДЬЯКОНОВА (Августа 1919 г.).
I.
Мы живем в государстве, мы умираем за государство. И мы каждую минуту думаем о нем, каждую минуту говорим о нем.
Но что мы думаем и что говорим?
Присмотримся к нашим мыслям, прислушаемся к нашим голосам. Какое разнообразие идей, какое противоречие настроений! То безграничное преклонение перед ним — этим загадочным великаном государством, — то самая яростная ненависть.
! Государство — это земной бог, слышим мы с одной стороны. Оно есть не что иное, как самая „божественная воля, как самый Дух, присутствующий и раскрывающий себя в действительный образ и организованный мир". Государство есть „мир, который Дух создал себе", и потому его следует чтить, как „божественное на земле“, а историю его постигать, как „путь Божий в мире". Нравственно живущий народ знает свое государство и его деяния, как свою собственную волю и осуществление и т. д.1 (См. И. А. Ильин. Философия Гегеля. Т. II (1918). Стр. 238, 223.)
Так говорит Гегель2 (Знаменитый немецкий философ род. 1770 г. умер 1831 г.)3 (Так говорил Заратустра. Рус. пер. Антоновского. 3 изд. 1907. Стр. 51. Фридрих Ничше немецкий философ род. 1844 г. умер 1900 г. Его философия представляет из себя попытку построить основы новой морали сверх человека. Ничше оказал огромное влияние на европейское и в частности на русское Общество в конце XIX н в начале XX вв.). А вот что говорит, например Ничше.
„Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, братья мои: у нас есть государства.
„Государство? Что это такое? Так слушайте теперь меня, ибо я скажу вам теперь слово свое о смерти народов.
„Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Оно холодно лжет; и эта ложь ползет из уст его: „Я, государство, составляю народ“.
„Это ложь! Созидателями были те, кто созидали народы и дали им веру и любовь: так служили они жизни.
„Разрушителями были те, кто ставит ловушки для многих и называет их государством: они навесили им меч и навязали им сотни желаний.
„Где существует еще народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз, как нарушение обычаев и прав.
„Это знамение даю я вам: каждый народ говорит на своем языке о добре и зле: этого языка не понимает сосед. Язык свой обрел он себе в обычаях и нравах.
„Но государство лжет на всех языках о добре и зле; и что оно говорит, оно лжет — и что даже есть у него, оно украло.
„Все в нем обман: крадеными зубами кусает оно, зубастое. Обман даже внутренности его...
„На земле нет ничего больше меня: я—упорядочивающий перст Божий“—так рычит чудовище. И не одни длинноухие и близорукие опускаются на колени“...
И т, д. и т. д.
Так разно говорят о государстве великаны человеческой мысли, а мы — малые и обыкновенные — колеблемся душой между одними и другими. То с надеждой взираем мы на государство, ожидая от него великих и богатых милостей, то проклинаем его с пеной у рта. II не знаем в конце концов, что оно — добро или зло; не знаем, чего желать — его укрепления или его смерти.
II.
Но во всяком случае — как бы мы ни были настроены к государству—мы мыслим его, как нечто стоящее над нами и вне нас. Оно рисуется нам, как нечто сильное и властное, диктующее нам свои приказания сверху, как некоторое особое внешнее существо, как некоторая особая сила иного порядка, чем мы сами.
Мы, конечно, пытаемся влиять на его жизнь и деятельность и для этой цели боремся между собой за власть в нем, но и при всем том мы не перестаем считать его чем-то совершенно отдельным от нас.
- „Мы* и „оно“ — вот общая формула нашего отношения к государству. „Оно" властвует, „мы“ подчиняемся; „оно“ не „мы“, „мы“ не „оно“.
Мы резко противополагаем его себе, ставим в иную плоскость, меряем разными мерками.
III.
В самом деле, когда мы думаем об отношении государства к другим государствам, мы считаем его свободным от тех правил поведения, который мы признаем обязательными для себя в отношении к себе подобным. Мы подчинены праву и нравственности, оно свободно.
Основным принципом нынешнего международного общения является принцип государственного верховенства, принцип неподчиненности государства какой бы то ни было власти и каким бы то ни было нормам (правилам). Правда, есть, нормы международного права, но все он покоятся на согласии государств (договоры, конвенции и т. д.) и действуют лишь до тех пор, пока это согласие продолжается. Международное общение, таким образом, в сущности представляет собой не что иное, как тот „союз эгоистов“, который изображал Макс Штирнер4 (Макс Штирнер — немецкий анархист. Его перу принадлежит известное сочинение .Единственный и его собственность). Это истинная анархия, фактически при первом столкновений превращающаяся в подлинную анархию и в самое безудержное кулачное право.
Смягчается-ли этот порядок вещей законами нравственности? Также нет. Общераспространенным является мнение, что коллективы5 (Коллективы—общественные союзы.) вообще стоят вне требований нравственности, что эта последняя может адресовать свои повеления только к отдельной человеческой личности. Государства имеют свои особые исторические задачи, а потому и свои особые мерила оценки. Вследствие этого высшим законом для каждого государства является его интерес, а единственной границей для этого последнего служит состояние фактических сил. Так, например, тот же Гегель учил, что „собственное благо" является для каждого государства высшим законом поведения, и каждое из них имеет право отстаивать его с оружием в руках. Все международные договоры и вытекающие из них права и обязанности не могут ограничить этот принцип борьбы за „собственное благо“. Каждое правительство исходит из своей особой задачи, особой „правоты“ и особой „мудрости“ и не призвано быть „всеобщим провидением“ или руководиться „филантропическими6 (Филантропия - благотворительность) 7 (Абстрактный—отвлеченный.) 8 (Ильин. Цит. вышѳ сон. стр. 256.)“ и „моральными“ соображениями. „Конкретное существование“ государства и его особенное благо есть единственно верный принцип международного поведения и перед его лицом все так называемое „международное право“ остается в области „абстрактного долженствования“.
В том же духе говорят и позднейшие. Высшая добродетель государства—это его могущество, худший порок — это его слабость (Трейчке). Верховным началом государственной политики служит „Staatsraison“, отличающийся резко от „Privatmoral“: если в области этой последней „приватной“ морали общим началом признается альтруизм, „Rücksicht auf andere“, то в области государственного поведения таковым должен быть только эгоизм—„Rücksicht auf sich selbst“ (Шолленбергер) и т. д.
Таким образом, никаких, кроме чисто фактических, сдержек для государства мы не знаем. И вот мы трагически испытываем на себе в настоящий момент все последствия подобного положения вещей. Весь мир залит кровью, бесчисленное количество всяческих ценностей погублено, и долго еще человечество будет вздрагивать в судорогах кровавой бойни, пока не установится прочно новое „фактическое равновесие сил“...
IV.
Но, может быть, так обстоит дело только в области между- государственных отношений? Может быть, в сфере внутренних отношений, в сфере отношений государства к своим собственным членам, его политика определяется иными началами? Может быть, здесь оно ^связывается правом или нравственностью?
Также нет. Высшим началом и здесь считается общественное или государственное благо, общественный или государственный интерес. Salus publica supreina Jex.
И это снова повторяется не только практическими государственными деятелями, но и защищается целым мощным научно-философским течением.
Со времен Гоббса9 (Ѳома Гоббс знаменитый английский философ и политический мыслитель, жил в XVII веке.) со всею решительностью высказывается мысль о безграничной государственной власти над личностью, о праве государства распоряжаться последнею по своему произволу. Личность только клеточка общественного организма; она не имеет права на самостоятельное существование; она может претендовать на это существование лишь постольку, поскольку выполняет ту или другую необходимую общественную задачу (Дюги). Личность только средство для целей государства и общества: так всегда было, так всегда будет, доколе общество не утратит инстинкта самосохранения (Шершеневич) и т. д.
Другими словами, всякий интерес личности может быть принесен в жертву интересам государства. Над государством нет и в этом отношении никаких связующих его законов права или нравственности, напротив, на все то, в чем оно имеет интерес, оно имеет уже и право.
Практически это учение приводило к тому, что за государством признавалось право на регулирование не только внешнего поведения человека, но и его внутренней, духовной жизни, его самых интимных чувствований. Не только Гоббс, но и его политический антипод Руссо признавали, например, право государства устанавливать для граждан обязательную религию и строго карать за ея неисполнение.
Если при таком воззрении говорят иногда о пределах государственного властвования над^человеком, о границах государственного вмешательства в ту или иную область общественной жизни, то исключительно с точки зрения практической. Государству иногда лучше воздержаться потому, что в том или другом случае его вмешательство может натолкнуться на серьезное противодействие со стороны населения, или потому, что оно вообще надлежащим образом не может быть проведено. Говоря иначе, причиной такого „самоограничения“ государства является не мысль о праве или нравственности, стоящих над государством, а соображения своего рода политической тактикгі. Недаром Иеринг10 (Иеринг —немецкий государствовѳд. ) даже самое (внутригосударственное) право характеризовал вообще, как целесообразное самоограничение государственной силы, как политику силы („Politik der Gewalt).
Еще определеннее выражаются на этот счет представители социалистической теории. „Для пролетариата, стоящего у власти, могут играть решающую роль соображения тактические (курсив подлинника) — не создавать себе врагов мерами, разумность которых не самоочевидна для соответственных слоев населения... Для пролетариата, стоящего у власти, могут играть роль соображения целесообразности... Но для пролетариата, стоящего у власти, не играют и не могут играть никакой роли соображения правовые, т. е. соображения о том, что своими мерами, направленными ко благу всего человечества, он посягает на права отдельных лиц“... „Законы, мораль, религия, говорится в Коммунистическом манифесте, представляются пролетариату рядом буржуазных предрассудков“11 (Гойхбарг Социальное законодательство Советской республики- 1919. Стр. 36. )
V.
Итак, вот каково оно, это^нате государство! Вот каково оно, независимо от того, в чьих руках находится его руль!
Всемогущий властелин над подчиненным ему отдельным человеком, оно стремится к такой же власти без конца и предела и над другими государствами, над всем человечеством. Стремится, ищет этой власти, пользуясь всякими средствами, всякими способами. Правдой и неправдой, силой и ловкостью, хитростью и обманом...
И не прав разве Ницше, когда он говорит о государстве, как о чудовище, которое „лжет на всех языках“? Разве может оно представляться нам чем либо иным, кроме безжалостного и всепожирающего Молоха, для которого дорого только одно—его собственное существование?
И какие же чувства может возбуждать в нас этот Молох? Не правы-ли анархисты, доходящие до полного и ожесточенного отрицания всякого—даже пролетарского—государства и всякого—даже социалистического—права?
По верному-ли пути пошло человечество, создав над собою этого властелина, поклонившись этому „новому кумиру“?
VI.
Не делаем-ли мы, однако, создавая себе указанное представление о государстве, какой-нибудь роковой ошибки?
Вернемся к отправному пункту наших размышлений. Действительно-ли государство есть нечто столь отличное от нас? Действительно - ли оно есть какое-то особое существо, к которому неприложимы наши обычные мерки права и нравственности?
5 казанное воззрение психологически понятно для деспотических государств старого Востока: государство предстояло тогда мысленным очам бесправного раба—подданного в образе всемогущего царя — владыки, отделенного от простых смертных бесконечной пропастью, окруженного ореолом божественного освящения. Царь — земной бог; все его действия внушаются богами небесными, и потому как можно мерить их обычными, человеческими мерками?
казанное воззрение объяснимо также для феодальных государств—поместий средних веков: патриархальный сеньор представлялся отцом своих подданных, а как могут дети судить своего отца?
Указанное воззрение понятно, наконец, для абсолютистских монархий старого режима: если король говорил „государство - это я", то и подданные, с своей стороны, чувствовали, что это именно так, что государство—это не они.
Но положение дела меняется. Самодержавие пало. Пали-ли вместе с ним монархии или они еще кое-где сохраняются,— во всяком случае везде народ в большей или меньшей степени взял свою судьбу в свои собственные руки. Государственный строй везде демократизируется, приближаясь временами и местами к идеалу полного народовластия. Пропасть между народом и правящей властью все более и более засыпается, а вместе с тем должен исчезать и старый мысленный отрыв „мы“ от „оно“. Ибо что такое теперь это „оно“, как не „мы“ сами, мы в своей организованной совокупности, мы со всеми нашими желаниями и мыслями, достоинствами и недостатками, аппетитами и пороками? Если прежде короли говорили „государство — это я“, то теперь, взяв власть от королей, мы в праве сказать „государство—это мы“.
Но, сказав это, мы обязаны сделать отсюда и все соответствующие выводы, а прежде всего мы должны принять на себя и все вытекающие из нашего положения обязанности• Среди них на первом месте обязанность перед правом и нравственностью.
В самом деле, почему мы, в отдельности признающие- себя подчиненными требованиям этих последних, организованные в совокупность, имя которой государство, вдруг делаемся от них свободными? Что нас внезапно освобождает?
Говорят, что государства имеют перед собой свои особые цели, свои особые исторические миссии, во имя которых им все дозволено.
Цели? Но ведь мы теперь, овладев государственным рулем, ставим его целями наши цели, мы теперь осуществляем наши желания, наши интересы; как же мы можем считать себя в праве уклоняться от сопряженной с этим фактом нравственной ответственности?
Исторические миссии? Но мисси народов, как и отдельных человеческих жизней, раскрываются только впоследствии; заранее „пути народов“, как и пути Господни, неисповедимы. Во всяком случае в каждый данный момент, при каждом возникающем перед нашим государством вопросе, в качестве- исторических деятелей являемся теперь мы, а чем же иным можем мы руководиться в своей деятельности, как не нашими общими представлениями о должном и недолжном, о нравственном и безнравственном. Если мы рядом с ними поставим в качестве определяющей инстанции еще какие-то иные представления об исторических миссиях, мы этим самым создадим нравственно-недопустимую двойственность поведения. Либо одно, либо другое—tertiuni non datur.
С другой стороны, если такое или иное убеждение наше об исторической мисси нашего народа и государства освобождает нас от всяких правовых и нравственных сдержек, то ведь оно освобождает от них не только нас, а и всякого другою, кто имеет, быть может, совершенно противоположное представление о той же мисси. Если мы, действуя во имя государства, свободны от соблюдения нравственных требований, то, конечно, по тем же основаниям, в праве считать себя свободным и он. Кто из нас прав, покажет история, а до тех пор и он и мы стоим на совершенно равной доске. Между нами должна разыграться борьба, а кто из нас победит— это уже вопрос чистой силы.
Подумаем же о том, как широко мы этим учением открываем дверь для всяческих политических авантюр, для всяческих насилий над народом, над его душой, его волей. Мы сами даем им заранее идейную санкцию, заранее облагораживаем их, придаем им величавый оттенок...
Но настолько последовательными мы быть не хотим. Посмотрите, в самом деле, как меняются наши мерки, когда при столкновениях подобного рода мы говорим о действиях наших и наших противников. Мы, которые только-что объявляли себя, во имя блага государства и его исторической миссии, свободными от обязательности всяких правовых гарантий и нравственных требований, мы начинаем вопиять о них, когда тот же образ действии усваивает себе противник. Когда „мы“ жестоко расправляемся с врагами, когда „мы“ без всякой жалости и без всяких гарантий правосудия совершаем величайшие акты насилия, мы оправдываем себя необходимостью и интересами „общего блага“, которое превыше всего,—а когда делают то же самое и во имя того же самого „они“, мы испускаем яростные крики о „наглости“, „варварстве“, „зверствах“ и т. д.
Одно из двух: либо все эти наши крики глубоко лицемерны, либо в них невольно сказывается признание, что все же для человеческих действий, к какой бы области они ни относились—к частной или государственной,—соблюдение нравственных начал обязательно.
VII.
Присмотримся, в самом деле, внимательнее. Вдумаемся глубже в то положение, которое считается многими совершенно бесспорной истиной государственной политики — salus publica suprema lex, общественное благо верховный закон. Точно-ли это такое бесспорное по своей ясности положение? Точно-ли это такая самоочевидная аксиома?
Остановимся прежде всего на понятии „благо*. Что оно такое? Как его определить?
Станем-ли мы при этом на грубо—гедонистическую12 (Гедонизм—учение, по которому цель жизни есть наслаждение.) точку зрения? Скажем-ли мы, что благо это то, что доставляет народу ощущение удовольствия, счастья, в чем бы оно ни состояло? Едва-ли. Ибо что, если наш народ даже в огромном большинстве своем— в настоящий момент находит свое удовольствие в том, что неминуемо ведет его к вырождению и гибели—например, в пьянстве или разврате? Станем-ли мы потакать ему в его пагубной страсти, поведем-ли мы его этим смертным путем? Конечно, нет: так поступают демагоги, но не люди, любящие свой народ и желающие ему его истинною блага.
Станем-ли мы на точку зрения более утонченного утилитаризма13 (Утилитаризм—учение, ставящее своим идеалом наибольшую пользу наибольшего числа людей, причем под пользой утилитаристы понимают наслаждение или отсутствие страданий. Учение утилитаристов наиболее ярко и полно изложены в произведениях английских ученых Джона Стюарта Милля и Бентама. ), скажем-ли мы, что общественное благо есть то, что Полезно народу? Но и здесь мы наталкиваемся на старый вопрос: а что я$е именно народу полезно?
И когда мы поставим перед собой этот вопрос во всей его полноте, мы поневоле убедимся, что ответ на него зависит опять-таки от наших общих представлений о благе и не благе, о добре и зле, т. е. до наших общих нравственных убеждений. Ибо не можем мы. признавать полезным то, что является по нашему мнению злом, хотя бы оно и принимало временами привлекательную и приятную форму.
Вспомните, какие разногласия встречаются по этому поводу во мнениях. В то время как одни считают полезным для народов мир и спокойствие, другие, напротив, утверждают, что продолжительный мир ведет к усыплению народного духа, к ослаблению его энергии, is что поэтому высшая польза народа требует бурь и войн: только в них—этих бурях—„выковывается булат“ народного характера, крепнет народная сила.—В то время как одни признают полезным для народа возможно большее развитие его материальных богатств, другие усматривают в этом опасность погружения народа в „мещанства“, опасность усыпления его моральной жизни и т. д. Везде решение зависит в конечном счете от таких или иных принимаемых нами нравственных принципов.
Но присмотримся к нашему понятию „общественное благо еще с другой стороны: что такое „общественное“?
Обыкновенно под этим выражением понимают общее благо. Но как бы ни определяли ближе это общее благо, оно—при крайнем разнообразии положений и интересов — абсолютно общим никогда не может быть. Всегда то, что является благом для одних, будет злом, бедствием или тягостью для других. Даже самая жизнь может быть иногда невыносимой тяготой. При таких условиях под „общим благом“ принято разуметь благо большинства вследствие чего принцип общего блага превращается в принцип принесения в жертву благу большинства блага меньшинства.
Но точно-ли этот принцип большинства может быть признан непогрешимым. Точно-ли он имеет беспорное, самодовлеющее значение?
Здесь нам приходится повторить только то, что мы говорим уже в другом месте14 (Покровский. А. Этические предпосылки свободного строя. Москва. 1917. Стр. 11.)
Достаточно небольшой вдумчивости, чтобы убедиться в противном. Согласимся-ли мы, например, на то, чтобы во имя блага большинства меньшинство было превращено в рабов? Уверены, что в настоящее время не найдется ни одного человека, который обладал бы неизвращенным нравственным чувством и который решился бы все-таки довести принцип большинства до такого крайнего вывода. Ни при каких условиях, ни для каких интересов, с точки зрения нашего нынешнего правосознания, рабство не может быть оправдано; никто, даже самое подавляющее большинство, не в праве его требовать.
А если так, то очевидно, что и над принципом большинства есть свой контроль, что выше его есть какой-то иной принцип, какая-то иная нравственно более могущественная инстанция. Интерес большинства не сам по себе может иметь значение, а лишь тогда, когда он может быть нравственно оправдан; вместе с тем очевидно, что и меньшинство может иметь свои права —и притом более сильные, чем права большинства.
Между тем об атом часто забывают, вследствие чего принцип большинства в его обычном вульгарном понимании превращается в проповедь безграничного господства большинства над меньшинством. Власть большинства не желает тогда знать для себя никаких границ: все для нея дозволено, все законно. И вот мы имеем тогда перед собой новый абсолютизм, новую тиранию — быть может, самую тираническую из всех тираний вообще, потому что для нея не существует даже тех элементарных физических опасений, которые сдерживают еще тиранов—одиночек. Опасность такого рода тираний особенно велика в революционные эпохи: народ, только-что свергнувший иго абсолютизма, легко поддается искушению самому занять место низвергнутого абсолютного владыки и усвоить себе приемы его властвования. Давно подмечено, что абсолютизм, даже низвергнутый, еще долго сохраняет свою отраву в народных воззрениях и навыках...
Таким образом, и с этой стороны принцип „общественного блага“ оказывается недостаточным. Это не истина, для всех очевидная, истина, которая могла бы дать нам прочное руководство в трудном деле государственного устроения, а еще только вопрос, который сам нуждается в тщательном исследовании и разрешении. И притом разрешении на основе тех пли иных наших нравственных убеждений. Везде—с какой бы стороны мы ни подходили к нашему положению в роли
руководителей деятельностью государства — мы встречаемся с одним и тем же: мы неизбежно подчинены требованиям нравственности; политика не может уйти от них. Не может так же, как не можем мы уйти от самих себя, от голоса своего разума и своей совести.
VIII.
Движимые именно этим чувством, некоторые представители так называемого естественного права (Локк и др.) уже давно проповедывали учение, противоположное тому, которое было изложено выше. Государство не есть нечто самодовлеющее и вне законное; над ним стоит некоторое право, право, диктуемое самим разумом, самой природой вещей. Это право налагает на государство известные обязанности, полагает его властвованию известные пределы. Это же естественное право признает за индивидом известные прирожденные и неотъемлемые права, нарушать которые никто, даже целое государство, не может. II основную задачу государства составляет прежде всего охрана этих прав.
Каковы именно эти прирожденные и неотъемлемые права человека,—в этом представители указанного направления не вполне между собою сходились; но для нас это несущественно. Важно то, что против всемогущества государства был заявлен протест, протест во имя некоторых высших начал нравственности, во имя некоторых высших прав личности.
Но этот протест был в XIX веке заглушен. Торжествовавший позитивизм15 (Позитивизмом называется учение в философии, имевшее большое распространение в Европе в конце XIX в- Родоначальником позитивизма быт французский философ Огюст Конт.) с безоглядной стремительностью гнал все то, что ему казалось метафизикой“, а в том числе идею естественного права и идею неотъемлемых прав. Какое естественное право над государством, когда государство есть высшая на земле сила? Какие неотъемлемые права человека, когда история наглядно свидетельствует о том, что нет таких прав, которые где-нибудь и когда-нибудь не отнимались! Так было, так будет!
К тому же представители указанного учения сами совершили роковую ошибку. Борясь, с крайностями самодержавной государственности, они в число неотъемлемых прав включили и право собственность протестуя против безграничного вмешательства государства в жизнь граждан, они -стали на сторону экономического учения „laissez passer, laissez faire“.
Этим они создали у себя самое слабое, самое уязвимое место. Экономическая жизнь XIX века со всеми своими социальными конфликтами и социальными бедами требовала как-раз обратного — разумного вмешательства государства в область отношений между капиталом и трудом, разумного регулирования права собственности. Признать при таких условиях неотъемлемость права собственности значило отказаться вовсе от надежды сколько-нибудь удовлетворительно справиться с выраставшими социальными задачами.
II вот, волнуемая экономическими неустройствами, общественная мысль стала охотно прислушиваться к учению „позитивистов“. Вместе с правом собственности в общественном мнении оказалась скомпрометированной самая идея неотъемлемых прав вообще. Сам собою складывался тезис: право собственности не есть неотъемлемое право, так как вообще таких прав нет.
Вот в чем заключается основная причина широкого распространения абсолютистских воззрений. Поставьте, в самом деле, себя мысленно в центре всевозможных эксплуатаций на почве свободы собственности, свободы договоров и т. д., и вы почувствуете себя невольно психологически настроенными к принятию учений о том, что собственность есть только предоставленная государством хозяйственно общественная „функция“, что отдельный гражданин имеет право на государственное покровительство лишь в той мере, в какой он эту функцию выполняет, что он есть вообще „клеточка“ в огромном народо - хозяйственном организме и т. д. и т. д. Вся соответственная струя настроений и мнений идет именно из этой экономической области. А так как экономические интересы стояли в течение XIX века в центре общественного внимания, то неудивительно, если эта струя была так сильна, что заливала все.
IX.
Между тем, в указанном тезисе заключался несомненный логический скачек. Возможно, что право собственности не есть неотъемлемое право, но значит ли это, что вообще никаких неотъемлемых прав нет, что самая идея этих прав ложна?
Логической неизбежности подобного заключения очевидно нет, и вопрос о правах личности нуждается еще в особом исследовании, в особой проверке.
Такую проверку дает нам история.
В настоящий момент может считаться доказанным, что требование гарантии личных прав против вмешательства государства выдвинуто было впервые на почве борьбы за религиозную независимость, и первое право, для которого домогались признания неотъемлемости, было право на свободу религиозного исповедания16 (См. Еллинек. Декларация прав человека и гражданина. Изд. библиотеки для самообразования. 1905.). Это право составляло основную тему английских п американских деклараций прав человека и гражданина; это право было внутренней движущей пружиной для образования учений английского философа Локка и других представителей указанного направления об ограниченности прав государства. И если эти мыслители к числу неотъемлемых прав присоединяли право собственности, то главным образом потому, что в его неприкосновенности усматривали одну из гарантий все той же духовной свободы человека против всевозможных косвенных посягательств со стороны государственной власти.
И вот посмотрим, что сталось с этим правом. Есть-ли в настоящее время какое-нибудь государство, которое претендует на звание культурного и которое не считает себя обязанным в такой или иной форме заявить, что оно признает право каждого на свободу веры и совести? Найдется-ли кто-нибудь из тех, которые проповедуют неограниченное всемогущество государства, кто потел бы вслед за Гоббсом или Руссо и стал бы в настоящий момент утверждать, что государство в праве устанавливать обязательную религию и карать за ея неприятие?
Думаем, что таких найдется немного, и что сами их союзники по направлению от них отрекутся.
А если так, то очевидно, что идея неотъемлемых прав не ложна, что она не умерла, но живет, и живет как-раз в том основном, что ее выдвинуло впервые в истории. Какие бы споры ни велись в теории о неотъемлемых правах, как бы отрицательно не относилось к ним господствующее настроение, жизнь делает свое дело: она их в известной области неуклонно и все прочнее и прочнее утверждает.
И снова проделайте психологический опыт. Поставьте себя мысленно в центре этой — духовной—области, вызовите все запросы своей души в этой плоскости, вспомните все свои глубочайшие, интимные переживания, и вы сразу почувствуете, что здесь никакому принуждению извне не может быть места. Здесь то, что составляет святая святых вашей личности, то, с утратой чего вы утратили бы самую свою сущность, как свободной нравственной монады, то, без чего все остальное на свете теряет для вас всякий смысл и всякий вкус.
И когда вы прочувствуете это. вы всем вашим существом восстанете против утверждений, что вы только клеточка государственного организма, что вы имеете право лишь на то, что соизволит вам дать этот безличный и аморальный17 (Аморальный—нравственно безразличный.) властелин, и обязаны выполнять все то, что он вам прикажет. В области веры вы поднимаетесь естественно на такую позицию, с высоты которой все земные учреждения, вплоть до государства включительно, кажутся малыми и условными. И мы знаем из истории религиозного мученичества, как истинно верующие бестрепетно шли на костер и крест. Маленькое меньшинство, даже одна единственная личность принимала смертнуіб, неравную борьбу за свою духовную независимость с огромным большинством, с целым государством. Принимала, ибо не могла не принять: отказ от этой борьбы обозначал бы для пея отказ от себя самой, обозначал бы разрыв с тем, что стоит превыше всякого большинства и всякого государства,—с самим Богом....
X.
Но, быть может, область веры составляет единственную область, где приходится допустить известную принципиальную ограниченность государства? Быть может, эта область лежит совсем особняком от всех остальных областей общественной жизни, представляет одно из тех исключений, без которых, как говорят, общих правил не бывает?
Более внимательный взгляд тотчас обнаружит, что это не так.
Возьмем, например, область мысли. Возможно-ли в настоящее время отправление человека за костер или в тюрьму просто за такое или иное его мнение по тому или другому вопросу, как бы ни казалось оно нам неправильным и общественно-вредным? Пусть стесняют еще свободу слова и пропаганды, но едва-ли найдутся теперь такие крайние защитники интересов „общественного блага“, которые потребовали бы удушения самой мысли, как таковой, потребовали бы устранения, если не из жизни, то из общества ея носителя.
Или возьмем область человеческой чести. Допустим-ли мы, например, оклеветание какого-нибудь человека, хотя бы для сохранения спокойствия или престижа целого государства? Признаем-ли мы позволительным в случае какой-нибудь правительственной неудачи для успокоения общественного мнения взвалить эту неудачу на предательство какого-нибудь генерала или на оплошность какого-нибудь дипломата? Заглушим-ли мы его вопль о восстановлении истины и его чести, отвергнем-ли мы его иск о клевете?
Не будем продолжать наших примеров; новейшее праворазвитие привело к широкому признанию так называемых прав личности и в значительной мере к восстановлению в этом отношении старого естественно - правового учения о прирожденных правах. Пусть область этих прав остается еще во многом неразработанной и туманной, но нельзя отрицать одного: есть известная сфера индивидуальных прав, которые современное правосознание признает абсолютно неотъемлемыми ни для кого—не только для отдельных сограждан, но и для целого государства. Все чаще и чаще обществу и государству приходится со всем самоотречением констатировать: пусть мы имеем большой интерес в том или другом, но мы не имеем на это никакого права...
А это уже само по себе имеет огромное значение. Раз дело обстоит так, то и всегда, во всех вообще случаях, когда возникает подобный вопрос о принесении индивидуальных прав в жертву „общему благу“, мы обязаны себя предварительно спросить: а имеем-ли мы на это право?
XI.
Но — скажут нам „скептики“ и „позитивисты“—говорите обо всем этом, сколько угодно;, в реальной действительности от этого ничто не изменится. Ибо что такое все эти „права“ и „нормы“, стоящие над государством, как не простые слова увещания, „жалкие слова“, которые не имеют никакой убедительности для силы и интереса? Что может удержать Государство от нарушения каких угодно ваших „прав“, если оно все-таки того захочет? Ведь над ним нет никакого высшего судьи, к которому можно было бы апеллировать, нет никакой власти, которая могла бы его заставить. При таких условиях все ваши „естественные“ права всегда будут оставаться „голыми правам, от которых никому ни тепло ни холодно.
Так-ли это однако? Действительно - ли всесильное государство или правящее в нем большинство может так безопасно для себя смеяться над всяческими правами и нормами? Действительно-ли эти последние заслуживают название „жалких слов“? Нет-ли, напротив, в них элемента грозных слов?
Присмотримся ближе к истории самого государства, напомним этому претендующему на абсолютизм владыке процесс его восхождения на нынешний трон, напомним ему судьбу его предшественников на этом троне. Быть может, кое-что поучительное извлечет он для себя из этого забытого им — правда, далекого — прошлого.
XII.
Было время, когда общество государства в нашем смысле не знало. Люди жили естественными патриархальными союзами—родами, складывавшимися из известного количества более мелких ячеек—патриархальных семейств.
Семья в таком строе представляла собой замкнутое, самодовлеющее целое, крепко спаянное властью абсолютного домовладыки. За этой властью от лица внешнего мира исчезало все, что входило в состав семьи—жена, дети, рабы. Все они не имели самостоятельного юридического существования, не имели никаких прав. Все они жили только для семьи, для домовладыки, были только клеточками семейного хозяйства. Определяемые домовладыкой интересы этого последнего составляли для них высший закон, перед лицом которого не могло быть никаких их личных интересов, никаких их индивидуальных прав. Конечно, и для домовладыки существовали соображения семейной „тактики“ и „целесообразности“, но не существовало соображений права—ибо в деле семейного устроения над ним не было никаких норм, никакого права. Конечно, вокруг него было мнение других домовладык, членов;того же рода, но это было только простое мнение, для него не обязательное: ибо власти над ним во внутренних семейных делах никто не имел. „Мой дом — моя крепость“ — так мог тогда сказать всякий патриархальный домовладыка.
Но так было только в деле внутреннею семейного устроения. За пределами этой области самый домовладыка оказывался в полной зависимости от родового союза. Не только в вопросах политики, но и в вопросах религии и нравов, в вопросах экономики он находился в полном подчинении у своих сородичей. Отступление от общепринятой веры отцов, от дедовских и прадедовских нравов и обычаев ставило его вне всего правового строя, делало его отлученным от „огня и воды“ бесправный „изгоем“18 (изгой—изгнанник.) („ehrlos“ и я rechtlos“, „wolfsfrei*). В экономическом отношении главнейший объект тогдашнего хозяйства и основное средство производства — земля — считалась родовой собственностью, и ея распределение зависело всецело от решений родовой организации. Полученный в пользование участок земли не мог быть ни продан, ни подарен, ни завещан. Домовладыка был, таким образом, даже в своей хозяйственной инициативе крепко связан, и в этом смысле являлся также только подневольною составною частью родового хозяйственного механизма.
Наконец, самый род во всей своей совокупности представлял, в свою очередь, по отношению к внешнему миру ни от кого независящее, и потому—суверенное, целое. Чьей- либо власти над ним не существовало. Все отношения его к другим соседним родам, классам и т. д. определялись свободной игрой интересов, свободными соглашениями— т. е. в общем так же, как определяются ныне отношения междугосударственныя. Не даром в прежнее время международное право обозначалось термином jus gentium (право родов).
Так жило это патриархальное общество. В нем целое, группа, было все, индивид ничто. Члены семьи были бесправны перед лицом домовладыки, домовладыка был бесправен перед лицом рода. И если бы в то время подвластный член семьи стал заявлять о том, что и у него имеются известные индивидуальные права, которых даже домовладыка, даже целый род нарушать не должен, то окружающая его среда ответила бы ему на это лишь грозным, негодующим гулом: о каких правах ты, дерзкий, можешь говорить, когда по отношению к тебе над твоим paterfamilias нет никакой власти, никакого суда? Помни, что все, что ты имеешь—даже самую жизнь твою,—ты имеешь только благодаря отцу и семье, а потому тебе принадлежат не права, а лишь обязанности по отношению к ним, и сам ты имеешь право на существование лишь постольку, поскольку ты выполняешь ту или иную полезную для твоей семьи функцию. Помни это и смири свой непокорный дух!
И долго смирял себя непокорный дух человеческой личности, долго душил в себе чувство личного достоинства, потребность индивидуальной инициативы. Но навсегда он покориться не мог.
Судьба к тому же послала ему могущественного союзника...
XIII.
В процессе борьбы за существование отдельные независимые роды вынуждены были—доброльно или недобровольно—складываться в более обширные соединения. Сначала только на время, для отражения общей опасности, а затем и навсегда, Появилась общая, так или иначе организованная, власть; установился некоторый общий, для всех вошедших в состав союза родов обязательный, порядок. Так возникло новое, народовое право, так возникла позая, надродовая, организация. И имя этой новой организации—государство.
По как оно—это государство—было еще слабо и немощно на первых порах! Как оно считалось еще с могуществом недавно независимых родов, с непроницаемостью семьи! И как тесен был круг его задач! Весь он исчерпывался делом общей военной обороны и тем, что с этим делом более или менее непосредственно было связано. Все то, что выходило за эти узкие границы, оставалось вне ведения и воздействия новой государственной власти. Не было ни уголовного ни гражданского государственного суда—обычай родовой кровной мести и вне - судебного самоуправства продолжал царить в сфере частных отношений, как естественная реакция по поводу преступлений и всяческих иных обид. Не решалась новая власть также дотронуться ни до строя землевладения, ни до строя семьи: все оставалось и здесь по прежнему.
Но жизнь шла вперед. Над родовая, государственная организация постепенно крепла, а охваченные ею родовые п и семейные оболочки, как-бы лишенные притока свежего воздуха, разрыхлялись и слабели. Две сильные струи точили их—одна сверху, другая снизу.
С одной стороны, усложняющиеся потребности военной обороны требовали все большего и большего упорядочения внутренней жизни общества, искоренения остатков родовой отчужденности, уничтожения мести и самоуправства и т. д. •“Вообще все большей и большей интеграции19 (Интеграция—объединение.) общества. С этой точки зрения необходимо было устранение всяких старых перегородок внутри общества, уничтожение всяких исторических средостений между государством и гражданином. Все.должно было тянуться только к нему одному — к государству; только в нем одном должно было видеть свой единственный центр, свою единственную опору.
С другой стороны, тот непокорный дух личности, который с трудом смирялся под игом семейного и родового деспотизма, все более и более оказывался неспособным терпеть. Человеческая личность вырастала, приходила к сознанию своих личных сил и интересов, своих индивидуальных потребностей и способностей. Она рвалась из опутывавших ее нравственных и экономических оков, хотела стать на свои собственные ноги.
И вот два течения встретились. Личность почуяла в государстве своего союзника, государство почуяло в личности свою вернейшую опору. И они подали друг другу руки.
Разбивая изнутри охватывающую его семейную и родовую скорлупу, личность оказывала государству огромную историческую услугу. С своей стороны государство для того, чтобы эта работа была возможна, должно было признать права личности, как таковой, против патриархального всевластия рода и семьи.
Подвластный -член семьи, стесняемый родовым строем домовладыка начинают обращаться за помощью к государству, и эта просьба о помощи уже не повисает в воздухе. Напротив, она встречается с сочувствием и увенчивается содействием. Родовое влияние постепенно испаряется; семейный строй ставится под контроль государства; личные права человека растут и берутся государственной властью под свою защиту. Старые оболочки разсыпаются; личность и государство становятся непосредственно лицом к лицу; Становятся, как друзья после победы над общим врагом.
Вот чем были они друг другу в прошлом, вот как государство достигло своего нынешнего положения, вот как оно взошло на свой нынешний царственный трон.
Теперь прошлое забыто и старые союзники враждуют между собой. Что же случилось?
А случилось то, что государство, выступившее в истории в качестве освободителя человеческой личности, боровшееся во имя прав этой личности с патриархальным деспотизмом, теперь пожелало само занять место этого последнего и присвоить себе его права. Освобожденная от патриархального рабства личность вдруг увидала, что ее освобождали только для того, чтобы снова сделать рабом. Казавшийся столь бескорыстный освободитель вдруг заявил размечтавшейся о своей^ свободе личности: теперь ты мой раб!.. Я тебе царь и земной бог, и не должно быть у тебя иного бога, кроме меня! Я тебе высший предел и закон, ибо выше меня нет ничего! Ибо выше меня и надо мной нет никакого закона, никакой власти!..
XIV
Но разве история человеческой общественности закончена? Не будет-ли прошлое имеет своего продолжения в будущем?
Всякому добившемуся трона властителю следует внимательно присматриваться к тому, что делается в его царстве и вокруг него. Иначе в одно прекрасное утро он может неожиданно для себя оказаться во власти нового претендента. Настоятельно необходимо это и государству. Так- ли безмятежно обстоит все для его властвования?-
Новейшее время обнаруживает, напротив, в этом отношении многие весьма неблагоприятные признаки, которые к тому же заставляют невольно вспомнить о рассказанном прошлом.
Присмотримся в самом деле к тому, что делается, что чувствуется Внутри государства, в самой области его властвования.
Не будем говорить о росте прямого анархизма и неприкрытых анархических настроений: как бы низко мы ни оценивали положительные построения анархизма, его широкое распространение во все времена служило ясным показанием того, что с делом личной свободы не все обстоит благополучно. Властвование государства .очевидно перешло какие-то пределы, начало где-то свыше меры жать. И было бы совершенно неправильно относиться к этому настроению свысока.
Но отрицание, если не государства вообще, то государства властвующею вышло далеко за границы анархических кругов. Если не весь, то по крайней мере значительная часть социалистического лагеря в числе своих догматов содержит учение об исчезновении или „отмирании0 государства вместе с переходом к новому социалистическому строю: „на место нынешнего властвования над лицами установится властвование над вещами, разумное руководительство процессами производства и распределения'. Не станем разбираться сейчас, насколько также утверждение обосновано даже с социалистической точки зрения; не станем проверять, действительно-ли „властвование над вещами“ и „разумное руководство“ экономическими процессами возможно без властвования над лицами. Для нас важен сейчас лишь самый факт отрицательного отношения к государственному властвованию. Как ни противоположны друг другу социализм и анархизм по самым своим принципиальным тенденциям, в этом отрицательном отношении з
они друг с другом сходятся и все соответствующие места социалистической литературы почти слово в слово совпадают с речами анархистов.
Однако, протест против государственного властвования распространяется еще шире. Он составляет душу всего новейшего синдикализма, он лежит в основе учении о государстве таких далеких от социализма ученых, как Дюги20 (юги—Французский ученый—профессор государственного права. Его книги «Государство», «Коопѳтитуционноѳ право» и др. пользуются широкой популярностью среди юристов современной Европы.) и т. д. Клич „государство уже умерло“ (Pctat est mort!"), „на его месте возникает нечто новое“—такой клич раздается все громче и громче, и уже этого достаточно для того, чтобы почувствовать серьезность положения. Пусть еще рано хоронить* государство, пусть еще судорожно борется оно за свою прежнюю властную жизнь,—во всяком случае что-то в его позиции нарушено, какие-то опоры его трона поколеблены. Идеологическая основа его власти перестала быть бесспорной.
XV.
Колеблется однако не только идеология. Государственное всемогущество ущербляется чем дальше, тем больше и практически.
Разрушив старые патриархальные соединения, которые охватывали индивида помимо его воли и принудительно, индивид затем, развивая свою свободную деятельность, на создавать союзы добровольные. Общность интересов и целей естественно стала соединять группы людей между собой основе особого соглашения. Так возникают разнообразие товарищества, артели, компании, кооперации и т. д. И чем дальше, тем больше все общество пропитывается этим духом корпоративности, духом свободной самоорганизации.
Как только это явление приняло серьезные размеры, государство стало по отношению к нему настораживаться, И понятно: в этих новых соединениях возникали новые средостения между ним и личностью, уничтожалась внутренняя распыленность общества и возникала новая сила, которая при известных условиях могла стать даже против государства, выступить с противодействием его целям.
И государство усваивает себе по отношению к ним политику подозрительности. Оно требует для возникновения всякого союза предварительного разрешения со стороны государственной власти; оно внимательно следит за всей его последующей деятельностью и сохраняет за собою право в любой момент его закрыть. Оно скупо отмеривает предоставляемые союзам права, старается сузить пределы их дееспособности.
Но жизнь оказывается сильнее. Тяга к свободному объединению в союзы усиливается настолько, что государство уже не рискует ей более в прежней мере противиться. Везде допускаются более свободные формы для учреждения союзов (т. паз. система явочная и система свободного образования), расширяется их правоспособность и дееспособность, контроль государства вводится в более тесные и более определенные границы и т. д. Государство, таким образом, оказалось вынужденным признать новую общественную силу и сдать ей целый ряд позиций.
Но вместе с этой силой растет сила и отдельной личности: маленькие, в одиночку слабые, социальные атомы, соединяясь в союзы, могут приобрести огромное общественное влияние. Государство утрачивает свою прежнюю роль единственного центра, к которому все стремится и от которого все исходит: внутри его появились новые центры, которые отвлекают от него немалую долю социального притяжения.
Но этого мало. В нашем нынешнем экономическом строе, с его крупным машинным производством и строгим разделением труда, огромное значение приобретают профессии. Лица, занятые одним видом труда, члены одной и той же профессии, имеют естественно одни и те же интересы, одни и те же стремления. Их общее жизненное стремление—улучшить свое положение.
Побуждаемые этими стремлениями, они стали создавать свои профессиональные союзы, которые, как известно, приобретают, чем дальше, тем большее значение. Начинаясь с организаций местных, они в дальнейшем стремятся охватить в себе членов данной профессии во всей стране. Возникая первоначально, как добровольные, они стремятся затем превратиться в организации обязательные: доступ к работе в данной профессии возможен только через них, допустим только для членов профессионального союза, вследствие чего всякий желающий получить работу оказывается в необходимости вступить непременно в его состав. Вместе с тем союзы заявляют притязание на право разрешать все вопросы, которые данной профессии касаются. Они стремятся, таким образом, стать единственным законодателем в своей области, приобрести право профессиональною самоуправления.
По мере того как эти стремления осуществляются, сила государства очевидно слабеет: оно выпускает из своих рук власть единственного полного распорядителя во внутренней жизни общества, оно слагает оружие перед своими собственными—профессиональными—частями.
Но мы знаем, что на этом профессиональное движение не останавливается. Мы знаем, что своего кульминационного пункта оно достигает в упомянутом уже синдикализме, который доходит таким путем до полного устранения государства. Государство не нужно, ибо жизнь общества должна регулироваться соглашениями всех составляющих общество профессий, соглашениями разнородных профессиональных синдикатов.21 (Синдикат-союз.)На месте законодательствующего, и властвующего государства окажется необходимым разве только некоторый центральный орган статистического характера. II вот—„государство уже умерло!“; перед нами только его разлагающийся труп!
Снова не будем затрагивать возникающих в связи с этими перспективами вопросов во всей их полноте. Не будем говорить о том, насколько такое синдикалистическое построение общества возможно и желательно, насколько оно было бы ко благу или ко злу даже для отдельного гражданина. Все это вопросы большие и сложные. Но не подлежит сомнению одно: некогда мощная оболочка государства утончается и слабеет: чем дальше, тем больше ей наносятся сильные удары изнутри, и под влиянием этих ударов в ней обнаруживаются уже весьма опасные трещины.
Эти трещины грозят превратиться, однако, и в огромные зияющие бреши...
Прошло время территориальной замкнутости государств. Прошло время, когда гражданин редко переступал границы своего государства, когда он мало знал о том, что делается в чужих краях, и почти вовсе не интересовался этими чужими делами, предоставляя их дипломатам, т. е. государству. Развитие духовной и экономической жизни вывело все на
роды на путь широкого интернационального общения, стерло все пограничные кордоны. Ныне всякий купец, промышленник. рабочий сознают тесную зависимость своего дела, своей судьбы от положения международного рынка, международного спроса и предложения, между народной конъюнктуры. В связи с этим развивается тяга к профессиональным организациям в международном масштабе. Широко раскинулись во всему свету разнообразные союзы капиталистов и предпринимателей, союзы, нередко диктующие свои условия не одному только тому или другому государству, а целому миру.
Теперь на тот же путь выходит и пролетариат. Борьба за лучшие условия труда или даже за полное перестроение всей экономической жизни привела его естественно к мысли о соединении пролетариата всего мира в одно целое, к мысли об г интернационале.
Все человечество как-бы стоит перед перспективой расколоться на две огромные враждующие части: на одной стороне соединенная „буржуазия“ всех стран, на другой стороне объединенный пролетариат.
А где государство? Оно стушевывается: слабое и жалкое, со всех сторон обойденное, оно беспомощно мечется между этими вырастающими колоссальными силами. Вот оно всемогущее, самодержавное, грозное!
XVI.
Так развиваются события внутри государства; посмотрим теперь, что делается вокруг нею.
Разве не чувствуете вы, что мир устал от того всеобщего напряжения, которое постоянно царит в нынешнем между государственном „ферейне22 (Ферейн—союз.)) эгоистов“ ? Устал от международного соперничества и войн, от непрестанного бряцания оружием, от бесконечного роста военных вооружений. Последняя всемирная бойня переполнила чашу человеческого терпения, потрясла общечеловеческую совесть. И по всему миру идет широкое веяние: долой этот дикий порядок вещей, надо регулировать международные отношения на разумных, достойных культурного человечества, началах!
Эгоизм государства должен быть ограничен в интересах общего мирного сожительства, господству силы должен быть положен предел, отдельный национальный интерес должен быть поставлен под контроль некоторой высшей власти...
А это -значит, что проснулась и в этой области жажда упорядочения и организации,—другими словами, жажда права.
Посмотрите, в самом деле, как в случаях между государственных столкновений каждая сторона, вступая в борьбу, стремится доказать, что на ея чашке весов лежит требование права и справедливости. Почему даже сторона безусловно сильнейшая не довольствуются простым заявлением „sic volo sic jubeo“? Почему редкие случаи подобных заявлений (.Noth kennt kein gebot“) вызывают всеобщее возмущение?
Очевидно потому, что уже всюду невольно признается, что сила не есть окончательная -инстанция» что выше ея стоит справедливость, нравственность, право. Обращаясь к этой высшей власти, стараются вызвать к себе сочувствие всего культурного мира—этой окружающей враждующее государства среды.
А эти поиски общественного сочувствия историку права говорят о многом. Ибо с этого начиналось всякое право вообще.
Было время, когда и во внутренних отношениях господствовало кулачное право: каждый отвечал на причиненную ему обиду по мере своих чувств и сил; месть п самоуправство были единственными способами защиты своих прав. Но уже тогда осуществление прав (этими способами) отличалось от их нарушения. Убийство из мести отличалось от убийства просто, самоуправное отобрание собственной вещи от грабежа чужой.
Посмотрите, с какой тщательностью древний человек, приступая к совершению подобных актов личного осуществления своих прав, старается отмежевать их от актов простого насилия! Убивая на месте захваченного вора, он старается криком созвать народ; приступая к отобранию собственной вещи, он в такой или иной торжественной форме громко заявляет о своем праве на нее; захватывая вещи должника для уплаты своего долга, он произносит опять таки определенные торжественные слова и т. д. Всем этим он хочет показать что идет прямо и открыто, что на его стороне право и справедливость. Он как-бы приглашает все общество проверить его действия; он этим старается вызвать к себе общественное сочувствие.
И историки права знают, что это общественное сочувствие было зародышем правового регулирования во всех областях жизни. Мало по малу неопределенное и неорганизованное сочувствие заменяется положительным и организованным содействием, расплывчатое общественное мнение определенным приговором суда, случайная помощь ближних постоянной защитой властей.
Международное право идет явно тем-же путем: недаром его уже давно называют с этой точки зрения „делающимся правом". И в области междугосударственных отношений мы наблюдаем многочисленные признаки того, что неорганизованное суждение и сочувствие стремится превратиться в организованное регулирование. Достаточно указать на всевозможные попытки международных третейских судов и международных трибуналов, на проекты создания лиги Наций и т. д. Намечающийся во всех этих попытках процесс должен значительно ускориться в связи с растущей демократизацией государств, в связи с исчезновением указанного отрыва власти от народа, в связи с укреплением тезиса: „оно“—это „мы". Если мы" не можем не признать над собою права, то не может не признать его и „оно“.
„Мы" разных государств начинают все более и более этически сближаться друг с другом, говорить на одном и том же языке, ценить одно и тоже. И через оболочки государств они протягивают друг другу руки, апеллируют к тому, что все они одинаково признают благом, и ставят это благо превыше всяких государственных верховенств.
Пусть весь этот процесс международной организации еще только начинается, пусть он далек еще от своего реального осуществления,—все равно: он уже далеко не пустая фантазия мечтателей-пацифистов23 (пацифист—сторонник всеобщего мира.)). Только-что выбивающийся из земли росток дуба есть уже реальное начало могучего дерева, которое покроет со временем своею листвой широкое пространство мира.
Как скоро пойдет в дальнейшем рост этой международной организации, мы не знаем, но уже теперь ясно одно: над государствами возникает новая высшая инстанция—человечество.
Как некогда государство появилось над самодовлеющими, независимыми родами, так теперь появляется это новое над самими государствами. И можно предвидеть, что прошлое повторится. Как некогда государство, охватив роды
своей высшей оболочкой, постепенно ослабило силу родового союза, так в будущем организованное человечество установит свой контроль над верховенством государств и подчинит их господству общечеловеческого права.
Как некогда патриархальный строй стал хиреть под двояким давлением изнутри и извне, так теперь испытывает такое же двоякое давление и строй государственный. Непроницаемость его оболочки слабеет, исключительность его властвования идет на убыль; „земной бог" с каждым днем теряет частицы своего „божественного“ ореола.
Значит-ли и это, что „государство уже умерло“ или что оно по крайней мере приговорено неумолимым судом истории к смерти?
Мы этого не думаем. Не умерла в человеческом обществе семья; даже родовые связи не вовсе потеряли значение; не исчезнет с лица земли и государство. Но, как и эти его предшественники, оно должно существенно изменить свой характер. Оно должно приспособиться к общечеловеческому правовому порядку, должно подчиниться праву, и прежде всего должно отказаться от своих нынешних притязаний на абсолютность своего властвования, на неограниченность своего эгоизма.
XVII.
Перед лицом всех указанных явлений в новом свете представятся нам и все те прирожденные права личности, о которых у нас была речь.
Можно-ли теперь утверждать, что они только „метафизические мечтания“, лишенные реального значения, что они только „жалкие слова", ни к чему в действительности государство не обязывающие?
Думаем, что нет; думаем, что мы должны отрешиться уже от того своеобразного „наивного реализма“, который лежит в основе подобных представлений.
В области права, прежде всего, реально, т. е. действительно существует, не только то, что может быть вынуждено силой государственных органов. Мы знаем, что право и права существовали задолго до того момента, когда за их охрану взялось государство. Мы знаем, что в ту эпоху, когда частные права осуществлялись актами мести и частного самоуправства, право резко отличалось от неправа, осуществление прав от их нарушения. Даже право неосуществленное, (например, по недостатку силы для мести или защиты) остается в сознании окружающей среды, как право, а правонарушение, как правонарушение. Убийца или грабитель даже тогда, когда они остаются безнаказанными, сохраняют в глазах народа клеймо своего преступления и несут на себе все его социальные последствия. Прямой продукт коллективной народной психологии, право имеет свое бытие в соответственном сознании общественной среды совершенно независимо от того, осуществилось-ли оно in concreto или нет. Поэтому первое, что имеет значение в вопросе о бытии или не бытии права, это установление того, получило-ли и оно себе признание в среде окружающего общества или нет.
Выше было показано, что для целого ряда личных прав такое всеобщее признание уже не может быть оспариваемо. Нарушение свободы веры или совести, клевета на человека и т. д. будут признаны в настоящее время, как преступление, даже тогда, когда в качестве нарушителя или клеветника окажется целое государство. И то обстоятельство, что против подобного правонарушения в этом случае нет достаточных средств защиты, что на государство нет управы,
не превращает правонарушение в явление правомерное: в общественном сознании так и останется, что государство совершило преступное, грязное дело. Безнаказанность не синоним права.
Отрицая неотъемлемые права личности, приписывая государству неограниченную власть распоряжаться человеком по своему произволу, сторонники неограниченности государственной власти оказывают самому государству плохую услугу. Они этим самым создают по отношению к государству атмосферу недоверия и вражды, усиливают тяготение личности к другим общественным центрам, дают питания стремлениям социально-центробежным. И мы уже видели результаты этих стремлений.
А в этих результатах кроется новое, весьма действительное, утверждение прав личности. Если государство по прежнему будет стоять на точке зрения неограниченности своей, оно будет все более и более утрачивать свой нравственный кредит, будет терять своих идейных клиентов. Так теряет свой кредит и клиентов не уважающий право купец задолго до того момента, когда его потянут к суду: неофициальная санкция обыкновенно предупреждает Официальную.
Но уже и она—эта официальная санкция—виднеется в недалекой перспективе для государства.
Мы только-что видели, какими сильными толчками движется вперед процесс интеграции человечества. С маленьких групп началась человеческая история; затем эти группы сливаются в большие и большие; на протяжении тысячелетий это слияние доходит до тех огромных государств— "левиафанов“, которые мы видим в настоящий момент. Но история не хочет на них остановиться. Она ставит на очередь вопрос о правовой организации всего человечества, о создании общечеловеческого права и общечеловеческого суда.
И вот зреет управа над государствами. По всему фронту современной общественной жизни ярко проходит одно и то же характерное явление: прорывая государственные оболочки, все тянется со своими болями и жалобами к этому общемировому коллективу, обращается к суду всего человечества. Обижаемая в пределах государства национальность, угнетаемое вероисповедание, страдающий от непомерной эксплуатации социальный класс—все в таких или иных формах несет свои жалобы на общечеловеческий форум, стремится вызвать свое государство на суд, добиться такого или иного давления на него. И мы знаем, что часто эти жалобы имеют успех.
Конечно, этот общечеловеческий форум24 (Форум - название суда в древнем Риме.) пока беспорядочен и не организован; но таким был вначале всякий форум вообще. Лишь постепенно, в процессе своей дальнейшей деятельности, он приобретает определенную организацию и упорядоченные формы. Так будет, без сомнения, и здесь.
И тогда наступит момент, когда на этом форуме, перед трибуналом Великого суда человечества, помимо целых общественных групп, сможет выступить в качестве истца против своего государства и отдельный человек. На суд человечества вынесет он свое попираемое государством право, восстановления справедливости потребует он—и, без сомнения, получит просимое. Ибо в широком мире человечества и объективная оценка конфликта возможнее и моральные перспективы яснее.
Через оболочку государства протянет свои руки личность ко всему человечеству, на государственную совесть будет апеллировать к совести общечеловеческой, и в этой апелляции неотъемлемые права личности найдут себе наивысшую санкцию, которая только возможна для них здесь— на нашей грешной, но правды ищущей и по правде тоскующей, земле.