Право техногенной цивилизации перед вызовами технологической дегуманизации
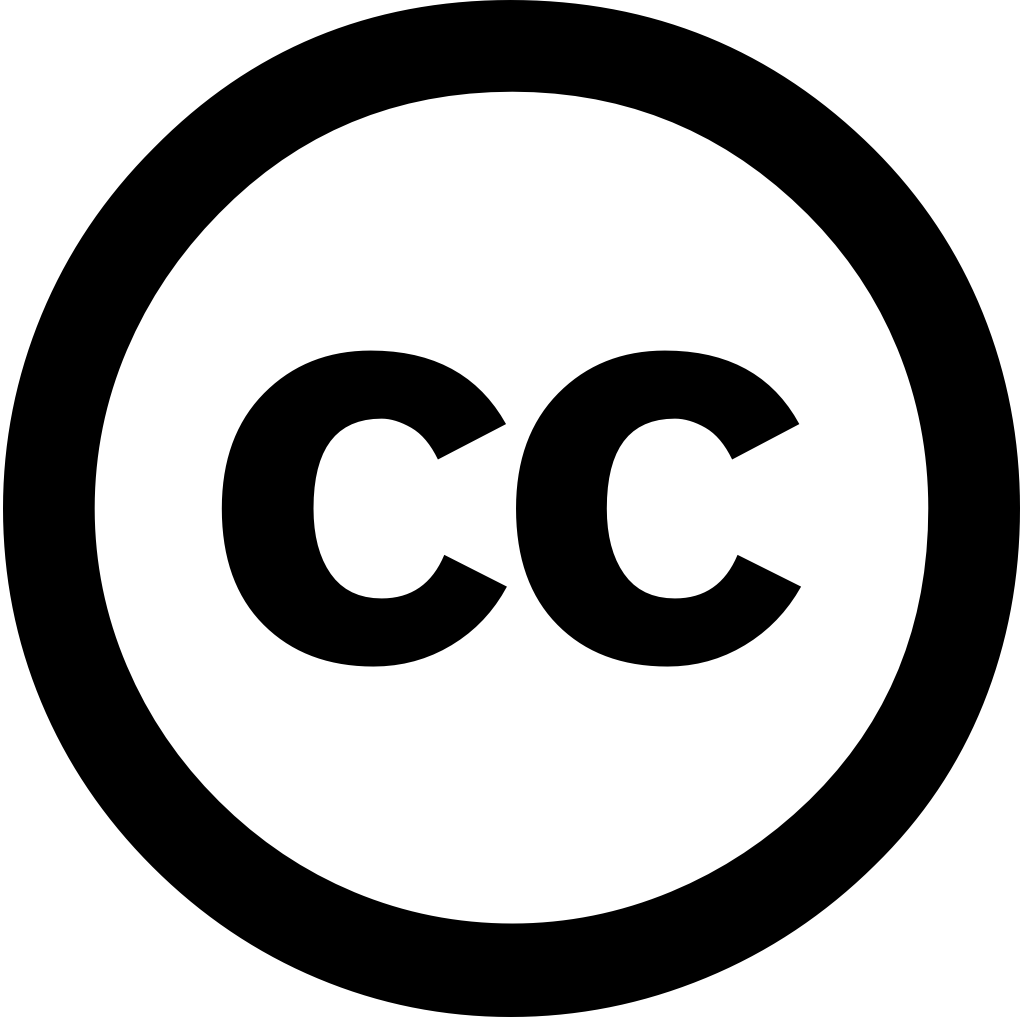

Published: July 1, 2021
Latest article update: July 4, 2023
Abstract
Право как система норм, основанных на принципе формального равенства людей всвободе, — это социальный феномен, имманентно присущий техногенной цивилизации, в культурную матрицу которой изначально заложен своего рода «ген» технэ (умения, основанного на знаниях). Специфику современного этапа развития техногеннойцивилизации определяют НБИК-технологии, которые несут в себе не только грандиозные возможности повышения качества жизни человека, но и не менее масштабныеопасности дегуманизации, обусловленные их интенцией на постчеловеческую перспективу развития. Необходимость противостоять разрушительному потенциалу этихтехнологий с тем, чтобы сохранить техно-гуманитарный баланс, до сих пор удерживающий человечество от самоуничтожения, требует мобилизации всех социо-нор-мативных ресурсов, важнейшим из которых является право. Однако проблема в том,что современное право, будучи прежде всего системой прав человека, не в состояниипредотвратить угрозы будущим поколениям и человечеству в целом. Это особеннопрослеживается на примере исследований и технологий наследуемого редактиро-вания генома человека, развитие которых не удается направить в русло глобальногоправового регулирования. Действующие в настоящее время международные нормы«мягкого права» и механизмы саморегулирования внутри мирового научного сообщества уже не могут сдерживать опасную технологическую экспансию в природу челове-ка. Попытка решить проблему на путях постсекулярного поворота в расчете на то, чторелигиозное сознание станет тем спасительным духовным ресурсом, который поможет человечеству удержать свое технологическое могущество в надлежащих границах, вряд ли увенчается успехом в силу различий религиозных антропологий, присущихразным типам религиозного мировоззрения. Поэтому задача состоит в выработке нового подхода к пониманию права, выходящего за рамки духовной матрицы техногенной цивилизации, который, с одной стороны, сохранил бы базовые гарантии индивидуальной свободы, а с другой — интегрировал в себя идею прав будущих поколений.
Keywords
Искусственный интеллект, права человека, солидарность, НБИК-технологии, будущие поколения, редактирование генома человека, дегуманизация, техногенная цивилизация
Введение: определение понятий и теоретико-методологических оснований анализа
Формулировка темы включает понятия, нуждающиеся в пояснениях. Это прежде всего относится к понятию техногенной цивилизации, предложенного академиком В.С. Степиным в рамках разработанной им типологии, которая охватывает два основных типа цивилизаций — традиционалистский и техногенный. Характерными отличиями техногенной цивилизации, в культурную матрицу которой изначально заложен своего рода «ген» технэ (т.е. творческого умения, основанного на знании), являются: понимание человека как творца, преобразующего окружающий мир; признанный в качестве идеала прогресс, трактуемый как приоритет инноваций над традициями; отношение к природе как к объекту преобразований и резервуару ресурсов для деятельности; культ научной рациональности; идеал автономной личности; идея власти как господства человека не столько над человеком, сколько над природными и социальными объектами [Степин В.С., 2017: 185].
Если попытаться выделить из этого перечня главный (сущностный, смыслообразующий) признак, то следует, по-видимому, признать, что таким признаком техногенной цивилизации «является ее инновационность, постоянный и все ускоряющийся поток научно-технических нововведений, выступающих базисом и матрицей всеобщих изменений» [Маслов В.М., 2014: 871-875]. Современная техногенная цивилизация с ее ярко выраженной инновационной интенцией определяет магистральный путь развития человечества, в который с разной степенью успеха встраиваются страны и регионы мира, тяготевшие ранее к традиционалистской цивилизационной модели.
Требует пояснения и понятие «право», традиция теоретического осмысления которого представлена огромным числом концепций правопонимания. Мы будем исходить из обоснованного академиком В.С. Нерсесянцем понимания права как системы норм, выражающих сущностный правовой принцип формального равенства — равенства людей в их в свободе [Нерсесянц В.С., 2002: 3-15]. Именно этот подход в наибольшей степени соответствует социальному феномену, который можно обозначить как право техногенной цивилизации: ведь творческая свобода человека является, в конечном итоге, главным ресурсом научно-технологического прогресса. В отличие от иных нормативных систем (морали, религии, обычаев), которые по своей природе тяготеют к традиционалистской цивилизации, право как мера свободы человека — это и продукт техногенной цивилизации, и стимул для ее развития, и гарант ее безопасности.
Различный смысл зачастую вкладывается и в понятие «технология», его современное научное употребление очень далеко ушло от значения данного термина, предложенного в Рекомендациях ЮНЕСКО о статусе научно-исследовательских работников (1974), где сказано, что «слово «технология» означает знания, которые относятся непосредственно к производству или улучшению качества товаров и услуг»1. В настоящее время технологиями, как правило, считаются все способы деятельности (включая также и социальные технологии), с помощью которых человек стремится преобразовывать окружающий мир или манипулировать им. Однако в рамках данного анализа речь пойдет лишь о так называемых высоких технологиях, входящих в систему НБИК-конвергенции, поскольку именно нано-, био-, инфо- и когно- технологии в своем синергетическом единстве определяют суть и специфику современного этапа развития техногенной цивилизации.
Что касается термина «технологическая дегуманизация», то он в силу его понятийной неразработанности и многозначности исходного понятия «дегуманизация» [Haslam N., 2006: 252-264] нуждается в гносеологической легитимации. Введение в научный оборот соответствующего понятия необходимо для осмысления качественно нового, постчеловеческого по своей направленности характера высоких технологий XXI века, которые меняют не только внешнюю по отношению к человеку среду, но и самого человека — его сознание, его психические и физические характеристики. Достигая позитивных результатов в лечении, повышении качества жизни и в спасении жизни отдельного человека, эти технологии, вторгающиеся в природу человека, на общечеловеческом уровне чреваты накоплением груза дегуманизации.
Осмысление права как феномена техногенной цивилизации включает в себя анализ права как важнейшего соционормативного гаранта безопасности технологического развития. Для раскрытия роли и значения права в качестве внутреннего защитного механизма техногенной цивилизации целесообразно опираться на разработанную А.П. Назаретяном концепцию техно-гуманитарного баланса. По этой концепции чем выше мощь созданных человеком военных и производственных технологий, тем более совершенные средства культурной (и прежде всего соционормативной) регуляции необходимы для сохранения социума. Культура, пишет он, «проходя через горнило драматических катаклизмов, совершенствовала контроль над естественными импульсами агрессии и тем самым адаптировала человека к растущему инструментальному могуществу». Идея сформулирована и верифицирована им на базе исторического анализа причин антропогенных кризисов и катастроф, сопровождавших всю историю развития человечества, а также расчета динамики коэффициента кровопролитности (т.е. отношения среднего числа убийств к численности населения в единицу времени), которая демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению по мере совершенствования военных технологий и роста демографической плотности населения. Проведенный им анализ показывает, что сообщества, сумевшие мобилизовать гуманистические начала разума, чтобы обезопасить разрушительный потенциал антигуманистической рациональности, выходили победителями в исторической конкуренции, а остальные «выбраковывались из исторического процесса, разрушив природные и/или организационные основы своего существования» [Назаретян А.П., 2015: 107, 116].
В ситуации, когда «захватывающие дух скорости технологического развития, которое может очень легко выйти из-под контроля» [Weizsacker Е., Wijkman А., 2018: 6], становятся, как говорится в юбилейном докладе Римского клуба, все более глубокой и системной проблемой современного общества. Со всей остротой встает вопрос о принципиальной возможности (или невозможности) техногенной цивилизации справиться с этой проблемой собственными ресурсами. Поскольку по мере цивилизационного развития и возрастания, с одной стороны, потребности в творческой свободе, а с другой — масштабов техногенных угроз, право все в большей степени брало на себя основную регулятивную нагрузку, оттесняя при этом иные социо-нормативные регуляторы, то вопрос, который находится сейчас в повестке дня, звучит так: можно ли за счет правовых инструментов предотвратить опасные человечеству последствия технологической дегуманизации? Именно под таким углом зрения мы и будем рассматривать заявленную тему. При этом главная проблема заключается в том, что право, будучи по природе своей порождением техногенной цивилизации, несет в себе ее основные риски. Если, согласно известной теореме К. Геделя, невозможно дать полное и непротиворечивое описание какой-либо системы, не выходя за ее рамки, то уместно поставить вопрос: можно ли решить проблемы системы, используя лишь имманентные ей ресурсы?
1. Право как феномен техногенной цивилизации
Чтобы понять природу права как феномена техногенной цивилизации, необходимо обратиться к истокам его зарождения и формирования. В контексте рассматриваемой нами темы главной проблемой применительно к генезису права является вопрос, было ли право уже на этапе своего генезиса результатом социального творчества человека (и тогда мы действительно можем утверждать, что право — это феномен творчески ориентированной, инновационной по своей внутренней интенции техногенной цивилизации), или право возникло как «естественное», извне предданное человеку, исходное для данного места и времени начало, которое, как считают приверженцы юснатурализма, «является единственным и безусловным первоисточником правового смысла и абсолютным критерием правового характера всех человеческих установлений» [Нерсесянц В.С., 2006: 794].
При рассмотрении проблемы мы будем исходить из того, что трактовка права как особого социального явления, выражающего определенную сущность, означает, что с момента своего зарождения право уже обладало этой сущностной особенностью [Нерсесянц В.С., 2006: 63]. Это значит, что (вопреки распространенным представлениям) право не было частью синкретичной мононормы, из которой вырастала система отношений первобытного общества, включающая зачатки права, морали, религии, а также родовые обычаи. Такая логика осмысления процесса генезиса права находит подтверждение в работах целого ряда антропологов, отличающих право как изначально социальное явление от естественно сложившихся обычаев, регулирующих кровнородственные отношения. При этом они отмечают принципиально важный для нашего анализа одновременный характер зарождения социогенеза и правогенеза. С позиций такого подхода зарождение правового равенства связывается вовсе не с «братским» характером раздела пищи внутри родовой общины, а с социальными по природе механизмами сдерживания полового инстинкта, такими как формирование внутригруппового табу на инцест, обеспечение этого табу путем создания дуальной родовой общины и построения системы матримониального обмена между двумя ее частями, выступающими в качестве исторически первых субъектов равноправного общения2.
Этот первый в истории человечества акт социальной инженерии, явившийся итогом колоссального напряжения интеллектуальных и волевых усилий первобытного человека, стал, по мнению К. Леви-Строса, первым шагом на пути перехода проточеловека от природного мира к социальному: «Запрет на инцест ... есть базис человеческого общества» [Леви-Строс К., 1985: 19]. Табу на инцест позволило нивелировать угрозу самоуничтожения зарождающегося человечества, обусловленную отсутствием у человека как особого биологического вида инстинктивных блокираторов внутривидовой агрессии3, и предотвратить самоуничтожение членов рода в борьбе за реализацию полового инстинкта.
Другим итогом введения этого табу стало создание коллективных субъектов взаимодействия, коммуницирующих друг с другом на началах формального равенства сторон. «Социальная жизнь дуально-родовой системы опиралась на равновесие между родами. Его сохранение представляло собой условие существования общности. Каждый род считал своего контрагента другим, неравным. ... Способов удержания в повиновении одной группы другой не было выработано, и попытка сместить равновесие в пользу одного из родов была бы губительной для общности» [Шалютин Б.С., 2011:18]. Формирование дуальной структуры родовой общины стало главным движущим фактором как социогенеза (поскольку это обеспечило каждую из групп сообществ коллективным образом Другого, необходимым для формирования ее собственного группового самосознания), так и правогенеза (поскольку в процесс правового по своей сути обмена приобретался и обогащался опыт правовой коммуникации зарождающегося человечества).
Понимание права как результата творческих усилий человека по сдерживанию разрушительной агрессии, заложенной в его биологическую природу, разумеется, не отрицает уже доказанного биологами [De Waal F., Ober J., 2006: 140-160] и эволюционными психологами факта, что в генетическую природу человека в ходе эволюции были заложены начала эмпатии и взаимности. Более того, эти генетические предпосылки как раз и обеспечили возможность рационального, т.е. сознательно основанного на принципе взаимности подхода к решению проблемы внутриродовых конфликтов. Такое характерное для биосоциальной эволюции взаимопроникновение природных и социальных начал позволяло решать сложнейшие задачи эволюции, связанные с необходимостью, с одной стороны, сохранить присущее человеку свойство внутривидовой агрессии, которое, по мнению специалистов, является важнейшим источником творческой энергии человеческой личности, а с другой стороны, блокировать его наиболее опасные проявления. Но отсюда вовсе не следует естественный характер прав человека, как полагает, в частности, Ф. Фукуяма. В состоянии подобной естественности человек еще не отличался от животного: он стал человеком именно благодаря сознательному творческому усилию, направленному на преодоление своих природных инстинктов.
Несмотря на универсальность начального этапа социогенеза, являвшегося одновременно и правогенезом, дальнейшее развитие права как носителя и выразителя творческих начал человека в разных регионах мира было отнюдь не равномерным. В силу целого ряда исторических причин формирование общественных устоев, основанных на принципе формального равенства людей в их свободе, получило наибольшее развитие в западноевропейском регионе, где оно явилось важным фактором зарождения техногенной цивилизации. Большую роль в становлении техногенной цивилизации сыграла античная философия, заложившая основы рационалистической европейской культуры с ее ориентацией на творческую, преобразовательную деятельность человека, и христианской духовной традиции, которая «выступила своеобразным опосредующим звеном между античной и новоевропейской культурой» [Степин В.С., 2011: 254].
Ключевую роль здесь сыграл заложенный в духовную матрицу Запада христианский догмат о человеке как существе, созданном по образу и подобию Творца, который в его католической трактовке выражал стремление человека постичь Бога через познание сотворенного по его образу человека. В этом моменте западное богословие существенно отличается от восточной традиции осмысления догмата о богоподобии человека, которая исходит «из того, что Откровение говорит нам о Боге, а только затем переходит к человеку и находит в нем то, что соответствует образу Бога», вследствие чего человеческий образ остается «непознаваем, ибо отражая полноту своего Первообраза, он должен также обладать и Его непознаваемостью» [Синельников С.П., 2010]. Католическая идея познаваемости Бога через человека, а также возможность трактовать человеческую деятельность как «своеобразное подобие в малых масштабах актов творения» [Степин В.С., 2011: 256], нашла затем развитие в философии протестантизма. Сложившиеся таким образом мировоззренческие основы способствовали формированию в западном сообществе идеи свободы людей в их общественной жизни, в то время как православное христианство ориентировало человека преимущественно на духовную свободу от греха [Синченко Г.Ч., 2000: 16].
Западная традиция толкования христианского догмата о богоподобии человека была усилена представлениями о рациональности Творца, «даровавшего своему Творению внутренне согласованные физические законы» [Вудс Т., 2010: 87]. И хотя гордая формула П. Абеляра «понимаю, чтобы верить», противостоявшая принятому в его эпоху концепту «верю, чтобы понимать», трудно пробивала себе дорогу [Левандовский А.П., 2005: 6-13], в конце концов она закрепилась в духовной матрице Запада, что обеспечило наиболее благоприятные предпосылки для развития науки. Другим важным фактором, действовавшим в этом направлении и также тесно связанным с упомянутым христианским догматом, стала идея равенства между людьми, выходящая далеко за рамки ограниченного равенства свободных граждан полиса, которое знала эпоха античности. Это способствовало существенному усилению права как нормативного регулятора, основанного на принципе равенства людей в их свободе, которое, начиная с Нового времени, все более уверенно оттесняло религию и мораль с ведущих позиций в системе соционормативной регуляции. Правовой вектор развития человечества, обозначенный в социальной практике и обоснованный в учениях философов Нового времени, которые видели источник естественного права «уже не в универсальном законе природы или в божественном разуме, а в самой природе человека» [Ромашов Р.А., 2021: 16], обеспечил простор творческой свободе человека, необходимой для научно-технического, а затем и научнотехнологического прогресса.
При этом право не только создавало условия для развития науки и технологий: реализуя свою изначальную интенцию, оно продолжало служить фактором преодоления опасности самоуничтожения человечества в результате очередного прорыва в сфере техники и технологий. На протяжении всей истории формирования и развития техногенной цивилизации возрастающая мощь создаваемых технологий компенсировалась совершенствованием соционормативных (прежде всего религиозных, моральных и правовых) регуляторов, что позволяло сохранять необходимый техно-гуманитарный баланс, удерживающий ее от гибели. Выразительным примером такой спасительной трансформации соционормативных регуляторов является обретение Европой по итогам Тридцатилетней войны (1618-1648) религиозной терпимости. Отсюда, по мнению П. Рикера, берет свои истоки идеология либерализма, в русле которой идея терпимости, провозглашенная в Новом завете устами апостола Павла, «утверждается как позитивная ценность более высокого ранга, нежели не сводимые друг к другу религиозные верования» [Рикер П., 2005:81].Не менее важным итогом этой затяжной и кровопролитной войны стало утверждение Вестфальского принципа национального суверенитета, обозначившего новую эпоху в развитии международного права. Внутригосударственные социальные конфликты этого периода становления капитализма также находили решение в русле правового подхода, способствовавшего слому сословных перегородок и высвобождению созидательной энергии зарождающейся буржуазии.
Французская Декларации прав человека и гражданина (1789), ставшая вехой на пути правового развития, также может быть отчасти отнесена к последствиям Тридцатилетней войны: как писал Н.А. Бердяев со ссылкой на Г. Еллинека, «декларация эта началась в религиозных общинах Англии и имела своим источником религиозное сознание свободы совести и безусловного значения человеческого лица, ограничивающего всякую власть государства. Из Англии Декларация прав человека и гражданина была перенесена в Америку, а затем уже во Францию» [Бердяев Н.А., 1990: 288]. Применительно к Америке речь идет о принятом в 1776 г. народными представителями Вирджинии Билле о правах, который в контексте нашего анализа заслуживает особого внимания, поскольку в этом первом историческом документе, позитивировавшем естественные права человека, была сформулирована идея прав будущих поколений, значение которой в полном ее объеме становится понятным только сейчас — в свете появления технологий, способных вторгаться в природу человека. Первая статья Билля гласила: «Все люди по природе своей в равной мере свободны и независимы и обладают от века правами, которых, став членами общества, они не вольны лишать потомство свое по сговору в том с другими ... »4. Реализация идей, заложенных в эти эпохальные по своему значению акты народного волеизъявления, способствовала становлению современной системы права как нормативной формы свободы человека и правовой демократии как институциональной формы свободы: «В 1809 году Швеция, а в 1815 году Голландия последовали примеру Англии, включив концепцию естественных прав в конституцию монархического государства; другие страны установили республиканский строй по примеру Америки, где республика открыто взяла на себя роль защитника естественных прав человека» [Крэнстон М., 1975: 12].
В XX в. мощные импульсы формированию системы международного права дали две мировые войны, уроки которых нашли отражение в Статуте Лиги Наций (1919), Парижском договоре «Об отказе от войны в качестве орудия национальной политики» (1928), в Уставе ООН (1945), закрепившем запрет войны как средства разрешения спора и возможность применения вооруженной силы в качестве санкции Совета Безопасности ООН. Существенное значение для укрепления правовых начал общественной и государственной жизни имело также осмысление в этот период антиправового опыта тоталитарных режимов, что способствовало принятию Всеобщей декларации прав человека (1948) и конкретизирующих ее международных пактов. Сформулированный в указанных документах каталог прав человека нашел отражение в послевоенных конституциях многих государств. Мировоззренческую основу данного каталога составляет комплекс гуманистических ценностей естественного права, сложившихся в результате слияния античной традиции понимания права как справедливого воздаяния равным за равное и морально-христианской трактовки справедливости как милосердия5. При всем несомненном обновлении естественно-правовой доктрины на современном этапе ее развития6 она сохраняет в себе внутренне противоречивое соединение этих разных регулятивных принципов7.
До сих пор человечеству удавалось в рамках международно-правовых договоренностей об ограничении таких видов оружия массового уничтожения, как ядерное, химическое, биологическое, радиологическое и т.д. удерживать ситуацию под контролем. Однако в современных условиях эти межгосударственные договоренности уже не могут служить гарантией безопасности, поскольку появляются новые субъекты, овладевающие технологиями производства оружия массового уничтожения. Технологии являются такой формой знания и умения, тиражирование которой обходится гораздо дешевле ее создания. По мнению специалистов, занимающихся изучением жизнесберегающих технологий, эта особенность превращает технологии в своего рода переносчик коллективного взаимодействия, который выступает в качестве главного двигателя истории [Подлазов А.В., 2018: 39-63]. Но эта же особенность делает подобные технологии легкодоступными средствами разрушения жизни. Данное обстоятельство становится особенно опасным в ситуации нынешней поляризации богатства8, когда отдельные корпорации и даже индивиды получили возможность распоряжаться неподконтрольными обществу ресурсами, «не уступающими тем, которыми обладают государственные структуры, а то и превосходящими их»9.
Наиболее ярким проявлением этой опасности является международный терроризм. Глобальная террористическая угроза поставила перед человечеством крайне сложную моральную дилемму, выраженную через столкновение, с одной стороны, идеи права как формы свободы, изначально заложенной в духовную матрицу техногенной цивилизации, а с другой — необходимости ограничения этой свободы для обеспечения безопасности. Если раньше эту извечную проблему человечества каждый решал сам, то в современном обществе глобального риска ее решение в значительной мере перешло в публично-правовое пространство. При этом вопрос, на который нужно отвечать, звучит следующим образом: правомерно ли ограничивать свободу тех, кто для ее сохранения готов рисковать своей безопасностью, чтобы гарантировать безопасность тех, кто не хочет рисковать? Этот выходящий далеко за рамки проблемы терроризма вопрос, на который современное общество пока не нашло ответа, предельно обострился в условиях пандемии COVID-19, когда пришлось решать, можно ли «обменять основные права на охрану здоровья»10, если речь идет не только о собственном здоровье.
В контексте рассматриваемой нами темы проблема правового режима в условиях пандемии интересна в связи не столько с такой мерой, как нокдауны (о которой развернулась основная правовая полемика), сколько с весьма широким применением государствами средств цифрового отслеживания контактов и наблюдения за здоровьем жителей. Обнаружившиеся при этом простота и действенность такого контроля (особенно далеко продвинулась здесь КНР) создают опасность сохранения его в качестве стандартной практики и в постковидный период. О необходимости противодействия этой опасности с целью защиты прав и свобод человека говорится, в частности, в Совместном заявлении «О защите данных и неприкосновенности частной жизни в условиях борьбы с COVID-19» от 18.12.2020, подписанном рядом организаций системы ООН11.
Ярким подтверждением актуальности подобной постановки проблемы является вышедшая в разгар пандемии (летом 2020 г.) книга «COVID-19: The Great Reset» («COVID-19: великая перезагрузка») с участием основателя Всемирного экономического форума К. Шваба, в которой проводится мысль о том, что и после пандемии ничто «не сможет вернуть «сломанное» чувство нормальности, потому что коронавирус знаменует собой фундаментальную поворотную точку нашей глобальной траектории... Мира, каким мы его знали... больше нет, он растворился в пандемии» [Schwab К., Malleret Т., 2020: 11]. Пандемия, считает автор, являющийся одним из наиболее влиятельных мировых экспертов, — это «окно возможностей» для создания нового мира, где на смену национальным государствам придут транснациональные компании, которые, по версии К. Шваба, возьмут на себя основной груз социальной ответственности. Чтобы лучше понять, какой мир предлагается построить после «великой перезагрузки» (или, как точнее переводят некоторые авторы — «великого обнуления»), следует обратиться к предыдущей книге К. Шваба — «Четвертая промышленная революция», — в которой он выступает не только как глобалист, но и как трансгуманист. Пандемия, считает автор, ускорила переход техногенной цивилизации к четвертой промышленной революции с ее конвергенцией НБИК-технологий, сулящей человечеству кардинальные перемены.
По-видимому, эта книга, которую многие называют манифестом глобализма, обозначила начало качественно нового этапа развития эпохи поздней современности, откровенно очертив в качестве обозримой исторической перспективы зловещие контуры постчеловеческого будущего. Гораздо менее заметным мировым общественным мнением оказалось другое событие последнего десятилетия, которое в контексте нашего анализа генезиса права приобретает не менее зловещий характер. В 2014 г. Национальный этический совет Германии рекомендовал законодателю декриминализировать инцест, сославшись на то, что «фундаментальное право совершеннолетних братьев и сестер на сексуальное самоопределение должно... перевешивать абстрактное понятие „защита семьи"»12. Дело, разумеется, не в призыве вывести инцест из-под действия уголовного закона (во многих странах этот вопрос не является предметом уголовно-правового регулирования), а в аргументации, направленной на социальную легитимацию отказа от древнего табу, положившего когда-то начало социальной истории человечества. Содержащаяся в таком подходе интенция на разрушение института семьи изнутри несет в себе заряд дегуманизации, потому что семья — это место, где человек восстанавливает психологические ресурсы, необходимые для сохранения потенциала гуманности, который до сих пор удерживает человеческий род от саморазрушения. Постановка этого вопроса сейчас, судя по всему, не случайна: разрушение фундамента, заложенного эволюцией в человеческую цивилизацию, — одна из предпосылок перехода к постчеловеческому будущему.
2. Право перед вызовами технологической дегуманизации
При всей серьезности обозначенных выше проблем, порождаемых развитием разрушительных технологий, человечеству до сих пор удавалось удерживать спасительный техно-гуманитарный баланс во многом благодаря тому, что опасность отставания гуманитарной составляющей была очевидной. Однако новейшие НБИК-технологии XXI века — прежде всего созидательные, а не разрушительные технологии, с развитием которых связаны надежды на выход из экологического кризиса, переход к персонализированной медицине, увеличение продолжительности жизни, прогресс в самых разных сферах, применяющих технологии искусственного интеллекта, возможность создавать новый мир путем контролируемого манипулирования атомами и молекулами, совершенствовать качество индивидуального и общественного сознания и т.д. Все эти заманчивые перспективы затмевают постчеловеческий характер подобных технологий, суть которых в том, что «они есть формы, способы воплощения постчеловеческого в жизнь» [Маслов В.М., 2014:872].
Хотя многие из постчеловеческих проявлений НБИК-технологий пока носят гипотетический характер, некоторые настораживающие моменты уже проявляются на практике. Так, постчеловеческая по своей направленности идея ЗП-принтерной нано-печати биологических органов из стволовых клеток остается пока теоретической возможностью, но нано-роботы в медицине — это уже реальность, а, значит, и опасения по поводу их несанкционированного введения в человеческий организм имеют основания. Технологии геномного редактирования эмбрионов, как отмечает одна из авторов его методики лауреат Нобелевской премии Дж. Дудна, еще не могут обеспечить ум и красоту «дизайнерских детей», однако уже сейчас с их помощью можно повысить выносливость организма, способность довольствоваться меньшей продолжительностью сна и т.п.13, что дает существенное конкурентное преимущество в жизни. Аналогичным образом можно сказать, что хотя нейротехнологии пока не позволяют контролировать мозговые процессы, однако путем сканирования мозга можно предсказать либеральную или консервативную политическую ориентированность человека с точностью более 70% [Kosinski М., 2021]. Причем связанная с этим опасность цифровой диктатуры вполне может исходить не только от государств, но и от частных лиц.
Кроме того, в обозримой перспективе контроль информации, как говорил израильский историк Ю. Харари в выступлении на Давосском форуме, позволит мировым элитам сделать нечто более радикальное и опасное, чем цифровая диктатура: при помощи биоинженерии и информационных технологий элиты получат возможность знать каждого человека лучше, чем его близкие. «Если не урегулировать этот вопрос, крошечная группа ... будет определять будущее жизни на Земле»14. Поскольку на данном этапе постчеловеческий потенциал НБИК-технологий в практической плоскости наиболее очевидным образом проявляется в технологиях искусственного интеллекта (которые трактуются специалистами как метатехнологии НБИК-комплекса) и в биотехнологиях, связанных с редактированием генома человека, то далее мы остановимся на этих направлениях современной технонауки.
Термином «искусственный интеллект» (ИИ) обозначаются «технологические системы, способные обрабатывать информацию способом, напоминающим разумное поведение и включающим, как правило, такие аспекты, как рассуждение, обучение, распознание, прогнозирование, планирование и контроль»15. Дегуманизирующее влияние технологий ИИ обычно связывают с тремя моментами: с опасностью утраты контроля за функционированием систем ИИ со стороны человека; с возможностью создания ИИ, запрограммированного на причинение умышленного вреда; с риском дискриминации различных социальных групп, которая может быть встроена «в алгоритмы через отражение (осознанных или неосознанных) предубеждений программистов16 либо предрассудков, заключенных в предыдущих решениях» [О’Салливан С., 2019:9].
Причем все эти опасности, каждая из которых в отдельности может пока казаться не столь очевидной, объединившись в какой-то одной технологии, уже сейчас становятся угрозой основам человеческого общежития. Один из таких примеров — технологии ИИ по распознаванию эмоций. Как показывает опыт Китая, анализу которого посвящен недавний доклад британской правозащитной группы «Article 19», внедрение этих технологий начинается с безобидной на первый взгляд помощи работе правоохранительных органов, однако очень быстро они расширяют сферу своего воздействия под давлением огромной заинтересованности как государственных, так и коммерческих структур17.
При всем обилии общественных и научных дискуссий по этико-правовым проблемам ИИ, внимание к которым в последние годы резко возросло, специалисты отмечают, что общемировой проблемой является ныне «практически полное отсутствие нормативного правового регулирования и нормативного технического регулирования основ, условий и особенностей разработки, запуска в работу, функционирования и деятельности, интеграции в другие системы и контроля применения технологий искусственного интеллекта» [Понкин И.В., Редькина А.И., 2018: 93]. Более того, не выработаны пока и надлежащие этические рекомендации международного уровня. Поэтому в марте 2020 г. по инициативе ЮНЕСКО была создана группа экспертов для подготовки проекта рекомендаций об этических аспектах ИИ, составившая к сентябрю 2020 г. первый проект таких рекомендаций. Показательно, что речь при этом идет не о нормативно-правовом документе, а лишь о рекомендациях, посвященных этическим аспектам ИИ: авторы проекта подчеркивают, что он носит рамочный характер и «зиждется на нравственных принципах, а также на уважении прав человека и основных свобод».
По-видимому, инициаторы создания таких рекомендаций учли опыт многолетней работы над этико-правовым регулированием геномных технологий, которая до сих пор не привела к принятию правового акта глобального масштаба, хотя такая задача ставилась уже на самых начальных этапах исследований в рамках международного проекта «Геном человека». Между тем при всей значимости вызовов, которые несут технологии ИИ, они, как отмечает Ю. Харари, пока что «всего лишь стимул для размышлений. Но что мы должны принять всерьез, так это то, что новая стадия истории подразумевает. .. фундаментальные преобразования человеческого сознания и личности. Оно может оказаться настолько глубоким, что придется пересмотреть само понятие «человек» [Харари Ю., 2019:491]. Технологии геномного редактирования, которые уже сейчас могут напрямую вторгаться в природу человека, несут в себе наиболее очевидную опасность дегуманизации. Показательно, что именно с подобными технологиями современные неомарксисты связывают суть нынешнего этапа капитализма, главная черта которого состоит в том, что знания здесь относятся уже не к орудиям производства, а к средствам воспроизводства биологической и социальной жизни18.
Ведущие мировые генетики, инициировавшие в свое время международный проект по секвенированию генома человека, предприняли большие усилия к созданию системы социо-гуманитарного сопровождения своих исследований. Кроме того, начиная с 1980-х годов, т.е. одновременно со стартом международного проекта «Геном человека», в структурах Совета Европы разработана и принята серия рекомендаций по генетической инженерии, использованию эмбрионов и плодов человека в целях диагностики, терапии и научных исследований, генетическому тестированию в целях здравоохранения и т.д. На этой основе впоследствии подготовлен текст Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины (далее — Конвенция о правах человека и биомедицине), которая в 1997 г. была открыта для подписания. Однако далее из нормативно-правовых актов удалось принять лишь три дополнительных протокола к Конвенции о правах человека и биомедицине19, остальные международные документы в этой области относятся к «мягкому праву», т.е. имеют декларативно-рекомендательный характер20.
Попытки перевода соционормативного регулирования отношений в сфере исследований и клинической апробации методов редактирования генома человека в правовое русло сталкиваются с серьезными трудностями, которые обусловлены различиями социокультурных традиций в разных регионах мира (прежде всего особенностями религиозной антропологии, наиболее наглядно проявляющимися в трактовке онтологического статуса человеческого эмбриона), а также исключительно высоким уровнем конкуренции в данной сфере: между странами за биобезопасность и качество жизни их граждан, между транснациональными корпорациями за рынки лекарств и технологий, между учеными за приоритет в науке. Именно впечатляющие успехи китайских генетиков в редактировании генома человека побудили британские власти в 2016 г. разрешить геномное редактирование двухнедельных человеческих эмбрионов in vitro при условии, что они не будут имплантированы в тело женщины.
Стремление не отстать от других в конкурентной гонке, несомненно, сыграло определенную роль и в том, что британский Наффилдский биоэтический совет (влиятельная в научном мире общественная организация) опубликовал в 2018 г. отчет, в котором допустил возможность генетических модификаций зародышевой линии человека при условии, что это не будет препятствовать благополучию рожденного с помощью данной технологии человека и не приведет к усугублению социального неравенства, а также к маргинализации или ущемлению отдельных социальных групп21. При этом, по мнению ряда специалистов, отчет «оставляет лазейку для использования этих технологий в дизайнерских целях», а «предлагаемый им путь нарушает международный консенсус, повышая риски необратимых генетических изменений и возникновения новых форм неравенства» [Дикенсон Д., 2018].
Существенная нагрузка по регулированию отношений в сфере геномных исследований и технологий приходится на механизмы саморегулирования внутри мирового научного сообщества, дополняющие международные нормы «мягкого права». К ним относятся редакционная и финансовая политика ведущих научных журналов и фондов (в соответствии с которой статьи и заявки на гранты должны сопровождаться подтверждением их соответствия рекомендациям международных научных организаций), возможность ученых участвовать в международном сотрудничестве, получать признание коллег и т.д. Однако реальность продемонстрировала ненадежность всех нынешних инструментов глобального управления. Рождение в Китае генно- модифицированных близнецов (всего через несколько лет после создания в 2012 г. использованной ими технологии направленного редактирования генома CRISPR/Cas9) в очередной раз подтвердило, что технологии относятся к такой форме знаний и умений, которая легко тиражируется.
После того, как огромные материальные ресурсы разных стран и колоссальные усилия мирового научного сообщества обеспечили результаты в расшифровке структуры ДНК, секвенировании генома человека и, наконец, в создании на этой основе эффективной технологии геномного редактирования (за что в 2020 г. присуждена Нобелевская премия по химии), оказалось, что сдержать распространение и применение этой технологии в таком опасном направлении, как редактирование зародышевой линии человека, крайне трудно (а может быть, и невозможно). Китайский эксперимент встретил единогласное осуждение научного сообщества генетиков и биоэтиков, но акценты при этом расставляются по-разному: одни специалисты считают редактирование зародышевой линии человека неприемлемым в принципе, другие критикуют лишь слишком рискованный и недостаточно обоснованный с медицинской точки зрения характер этого эксперимента. Внутри каждого из этих двух лагерей существуют разные позиции.
Среди специалистов, допускающих генетическое редактирование зародышевой линии человека, есть как и убежденные трансгуманисты, так и те, кто надеются не скатиться от геномной терапии в сторону «улучшения» человека или рассчитывают на возможность (если и не утопичную, то весьма опасную22) с помощью генной инженерии сделать человечество более гуманным. Их оппоненты выдвигают два уже упомянутых и очень серьезных аргумента. Первый: ныне живущие люди не вправе принимать за все последующие поколения столь экзистенциальные по своему масштабу решения, чреватые необратимыми генетическими изменениями. Второй аргумент связан с опасениями, что этот путь приведет к непреодолимому социальному неравенству как внутри отдельных государств, так и на глобальном уровне [Darnovsky М., 2008:453]. Масштабы и характер подобного неравенства могут быть таковы, что человечество в итоге окажется расколотым на разные социобиологические касты.
Мнения, что плодами развития технологий всегда вначале пользовалась элита, а за ней подтягивались и остальные, не выглядят убедительными: они относятся к эпохе, когда элита была заинтересована в массах как в рабочей или военной силе. Именно этой объединяющей массы и элиту общей заинтересованностью был обусловлен тот факт, что «великие проекты человечества XX века — борьба с голодом, эпидемиями и войной — ставили целью гарантировать универсальную норму благосостояния, здоровья и мира для всех без исключения. Проекты века XXI... нацелены на то, чтобы превзойти норму... они могут привести к созданию новой касты сверхлюдей» [Харари Ю., 2019: 103], которая не будет озабочена подтягиванием остальных до своего уровня. Мы видим, как современная медицина все больше ориентируется на обеспечение молодости и красоты богатых и здоровых, оттягивая ресурсы от лечения бедных и больных. Аналогичные тенденции намечаются уже и в сфере применения технологий геномного редактирования: так, методика трехстороннего оплодотворения, которая заключается в переносе ядра яйцеклетки матери с дефектом митохондрии ДНК в яйцеклетку донора с нормальными митохондриями (в обыденном словоупотреблении — технология рождения детей «от трех родителей»), которая была разработана для семей с наследственными заболеваниями, все активнее продвигается на рынки борьбы с бесплодием, вызванным старением [Дикенсон Д., 2018]. И это только начало.
Сможет ли современное право, являющееся прежде всего правом человека как отдельного индивида, противостоять такому развитию событий, чреватому утратой человечеством его биосоциального единства со всеми вытекающими отсюда катастрофическими (причем, возможно для всех, а не только для тех, кто останется в статусе «простолюдинов») социальными и биологическими последствиями?
3. Объективные трудности правового решения проблем технологической дегуманизации
Ответ на поставленный вопрос, скорее всего, должен быть отрицательным. Дело не только в том, что главные рычаги влияния на национальное и международное законотворчество находятся в руках политико-экономической элиты, которая будет использовать их в своих интересах, т.е. по своему произволу. Даже если бы ситуация развивалась в русле права (в его различении с произволом в форме закона), следует признать, что право как система норм, гарантирующих формальное равенство индивидов в их свободе, «работает» в логике подхода, который не способствует решению общечеловеческих проблем технологической дегуманизации. Рассмотрим этот тезис на примере перспектив использования технологий наследуемого редактирования генома человека.
Здесь мы наглядно можем видеть, что развитие в рамках правового, по своей сути, подхода открывает дорогу клиническому редактированию зародышевой линии человека со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями. Так, согласно п. 1 ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966), каждый имеет право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, при этом п. 2 ст. 2 Пакта гарантирует осуществление этого права без какой бы то ни было дискриминации. Соответствующие положения получили закрепление и конкретизацию в конституциях и законодательстве практически всех современных государств. Это означает, что каждый, кому будет отказано в возможности родить здорового ребенка со ссылкой на законодательный запрет геномного редактирования зародышевой линии, может обратиться в суд с жалобой на дискриминацию по основанию отличия его генетического наследия от тех, кто может лечиться с помощью геномной терапии соматических (т.е. не зародышевых) клеток. То обстоятельство, что процент таких пациентов будет невелик, поскольку устранить генетически обусловленные патологии у будущих детей в большинстве случаев можно с помощью вспомогательный репродуктивных технологий без использования генетической инженерии, с правовой точки зрения сути дела не меняет: каждый человек имеет равное с другими (т.е. не дифференцированное в зависимости от его генетического статуса) право на охрану здоровья.
Поэтому в подобной ситуации гражданин России может обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на то, что законодательство, препятствующее применению для его лечения медицинских технологий геномного редактирования, не соответствует ч. 1 ст. 41, гарантирующей охрану здоровья, и ч. 2 ст. 19 Конституции, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, а также других обстоятельств. Если Конституционный Суд примет жалобу к рассмотрению, то наверняка откажет в ее удовлетворении, сославшись на ч. 3 ст. 55 Конституции, допускающую ограничение прав человека в той мере, в какой это необходимо для защиты ряда ценностей общего блага. Скорее всего, Суд укажет при этом на такую ценность, как нравственность (потому что остальные перечисленные в этой статье ценности явно не релевантны рассматриваемой проблеме). Но каким образом можно доказать, что редактирование генома человека в медицинских целях нарушает требования нравственности, особенно когда терапевтические выгоды, получаемые «здесь и сейчас», превысят риски для здоровья будущих поколений? Ведь нравственность требует прежде всего гуманного отношения к страдающему человеку.
В любом случае ссылки на защиту нравственности не снимают поставленную заявителем проблему дискриминации в деле охраны здоровья и поэтому следующим его шагом может стать обращение в Европейский суд по правам человека (далее — ЕСПЧ) с жалобой на нарушение ст. 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), запрещающей дискриминацию по каким-либо признакам. Если в связи с данной жалобой ЕСПЧ обратится (как это уже принято в его практике) к Конвенции о правах человека и биомедицине, то он окажется в ситуации внутренне противоречивого действия ряда норм данной Конвенции. Как справедливо отмечает член Европейской комиссии по этике и экс-председатель Наффилдского биоэтического совета Дж. Монтгомери, ст. 13 Конвенции о правах человека и биомедицине, которая запрещает вмешательство в геном человека, направленное на изменение генома его наследников, входит в противоречие со ст. 2, согласно которой «интересы и благо отдельного человека превалируют над исключительными (sole) интересами общества или науки», со ст. 3, гарантирующей равную доступность медицинской помощи, и ст. 11, запрещающей любую форму дискриминации лица по признаку его генетического наследия [Монтгомери Дж., 2018: 39-40]. Очевидно, что ст. 2, ст. 3 и ст. 11 Конвенции в своей совокупности имеют более весомый правовой смысл по сравнению со ст. 13 и могут, условно говоря, ее «дезавуировать».
Что касается ст. 26 Конвенции, определяющей критерии и основания для ограничения содержащихся в ней прав и положений о защите, то, как сказано здесь, их осуществление «не может быть предметом иных ограничений, кроме тех, которые... необходимы... для предупреждения преступлений, защиты здоровья населения или защиты прав и свобод других лиц»23. Указанное здесь в качестве общего блага здоровье населения вряд ли корректно интерпретировать как здоровье будущих поколений (даже в контексте положения Преамбулы о том, что достижения биомедицины должны использоваться для блага нынешних и грядущих поколений).
Отсюда следует, что, оставаясь в плоскости правового подхода, мы можем получить ситуацию, когда благими правовыми намерениями и действиями будет вымощена дорога к колоссальным неправовым привилегиям тех, кто получит усовершенствованные гены, и, соответственно, к такому же масштабу дискриминации остальных. Выдающийся немецкий философ Г. Йонас в книге «Принцип ответственности: опыт этики для технологической цивилизации»24 связывал возможность решения рассматриваемой проблемы с формированием новой этики обязанности, которая способна отказаться от принципа взаимности, требующего, чтобы моя обязанность была бы зеркальным отображением чужого права. По сути, речь идет о том, чтобы оттеснить кантовский категорический императив, который задает параметры правовой системы25, с ведущих позиций в системе социо- нормативной регуляции, поставив на его место категорический императив сохранения человечества. «Для меня... этот императив — единственный, к которому действительно подходит кантовское определение категорического, т.е. безусловного. Однако его принцип... есть не самосогласованно разума, устанавливающего для самого себя законы своей деятельности... но основывающаяся на существовании ее содержания идея возможных деятелей вообще, являющаяся, в силу этого, онтологической идеей, т.е. идеей бытия. Оказывается поэтому, что первый принцип «этики будущего» находится не в самой этике как учении о деянии... но в метафизике как учении о бытии, частью которого является идея человека» [Йонас Г., 2004: 62].
Таким образом, Г. Йонас исходит из того, что поставленная им проблема ограничения биотехнологического развития не может быть решена с помощью внутренних ресурсов техногенной цивилизации, которые в конечном итоге всегда направлены на реализацию заложенной в нее интенции овладения природой и доминирования над ней посредством техники. Переводя проблему в плоскость метафизики как учения о сверхопытных, сущностных началах бытия, он предлагает подчинить соционормативную систему техногенной цивилизации требованию заповеди, согласно которой «человек должен быть». При этом человек, подчеркивает Г. Йонас, должен не просто быть, а должен сохраниться в своей «неурезанной человечности». Предложенный им категорический императив — это не нормативный принцип, как у И. Канта, а скорее именно заповедь, религиозную суть которой Г. Йонас в виде вопроса выразил так: сможем ли мы восстановить уничтоженную научным просвещением категорию святого и вернуть человеку благоговение перед тем, «что ни при каких обстоятельствах не может быть поругано» [Йонас Г., 2004: 226]?
Конечно, в очень отдаленной перспективе, когда сохранить благополучие человека в «неурезанной человечности» станет невозможно, человеку придется довольно далеко зайти по пути совершенствования своих природных качеств, чтобы «выйти за пределы нашей хрупкой планеты, как и нашей хрупкой природы»26. Но на современном этапе, следовало бы, по-видимому, руководствуясь этикой ответственности, затормозить опасное развитие событий до тех пор, пока технологический прогресс не перестанет нести в себе экзистенциальные антропологические риски. С этих позиций целесообразно пойти по пути реализации предложения ряда ведущих генетиков о введении пятилетнего моратория на исследования в области геномного редактирования зародышевой линии. Однако учрежденная ВОЗ в 2019 г. группа экспертов по изучению научных, этических, социальных и юридических проблем редактирования генома человека не поддержала идею моратория (скорее всего, в силу невозможности ее реализации) и решила ограничиться формированием глобального реестра всех экспериментов по редактированию генома человека, разработкой стандартов их проведения и обеспечением механизмов контроля27.
Осуществление даже такого весьма мягкого сценария нормативной регламентации данной сферы во многом будет зависеть от доброй воли субъектов регулируемых отношений, к числу которых относятся государства, национальные и транснациональные фармацевтические компании, исследовательские коллективы, спонсоры исследований и отдельные ученые.
Поскольку носителями воли в конечном итоге всегда являются конкретные люди, важно иметь в виду, что воля их (прежде всего, исследователей, чья индивидуальная мораль могла бы противостоять давлению государственных и коммерческих интересов) весьма жестко ограничена требованиями соблюдения законодательства о государственной и коммерческой тайне. В этих условиях реализация рекомендаций ЮНЕСКО, призывающих государства обеспечивать ученым возможность «свободно выражать свое мнение по поводу гуманности... определенных проектов и в качестве крайнего средства отказываться от работы по этим проектам, если это продиктовано им их совестью»28 существенно затруднена. Таким образом, и здесь право выступает как фактор, не способствующий сдерживанию опасного технологического развития.
Судя по всему, понимание невозможности решить рассматриваемые проблемы техногенной цивилизации, оставаясь в рамках правовой рациональности, побудило Ю. Хабермаса выдвинуть в 2001 г. идею постсекулярного общества (показательно, что его публичная лекция, на которой впервые была эта обнародована эта идея, совпала по времени с завершением им работы над книгой «Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике?»). Суть объявленного им постсекулярного поворота заключается в преодолении «некорректного исключения религии из сферы публичности», лишающего современное секулярное общество «важнейших ресурсов смыслоутверждения», которыми обладает религия [Хабермас Ю., 2001]. Однако надежда на то, что религиозное сознание станет тем спасительным духовным ресурсом, который поможет человечеству удержать технологическое развитие в безопасных границах, пока не оправдывается. Причем завышенность подобных ожиданий особенно наглядно проявляется именно в сфере антропогенетики, где в пространстве применения технологий редактирования генома человека конкурируют разные традиции религиозной антропологии, связанные с различным пониманием природы человека, а соответственно — возможностей и пределов вторжения в нее.
Главным камнем преткновения при этом являются вопрос о моменте зачатия и проблема онтологического или (как некоторые считают уместным говорить) правового статуса человеческого эмбриона in vitro (т.е. эмбриона, находящегося вне тела женщины). При этом самое мягкое законодательное регулирование манипуляций с эмбрионами in vitro имеет место в тех технологически развитых странах, где доминируют буддизм, ислам и иудаизм, а самое жесткое — в европейских странах с устойчивыми христианскими традициями (в Ирландии, Германии, Италии, Швейцарии), а также в государствах, подписавших Американскую конвенцию о правах человека. Согласно христианской культурной традиции, эмбрион имеет статус субъекта, обладающего правом на жизнь, уже с момента зачатия, поскольку именно тогда зарождается душа человека. Правда, применительно к эмбриону in vitro этот момент трактуется по-разному: для одних душа зарождается уже в момент оплодотворения (что означает наделение статусом субъекта также и эмбриона in vitro29), другие считают, что зачатие имеет место лишь с момента имплантации эмбриона в полость матки30. В соответствии с исламской мировоззренческой традицией, человеческая жизнь начинается на девятой неделе после зачатия, когда ангел вдыхает душу в зародыш. Для буддизма, у которого нет понятия души, этот вопрос и вовсе не принципиален.
Таким образом, христианство, ставшее когда-то важнейшим фактором формирования техногенной цивилизации, изначально содержало в себе мировоззренческие ограничители, препятствующие опасной для человека направленности технологий на изменение его природы. Эти ограничители, которые не были сформированы в других мировых религиях, до сих пор существенно влияют на профессиональный этос научного сообщества, работающего в рамках социокультурной парадигмы, сложившейся на основе христианского мировоззрения. Очевидно, что достижение глобального морально-религиозного согласия в подобного рода вопросах, корни которых уходят в глубины религиозной антропологии, в обозримой перспективе крайне проблематична. Кроме того, в современных условиях этому явно не способствует то обстоятельство, что страны, не обремененные жесткими религиозными запретами в сфере развития геномных исследований и технологий, получают существенные преимущества в глобальной конкурентной борьбе. Возможно, что в будущем человеческое сообщество, столкнувшись с постчеловеческой реальностью, найдет в себе силы консолидироваться вокруг идеи новой этики, способной обуздать его технологическое могущество.
Однако на данный момент надо искать решение проблемы в рамках правового подхода, расширяя его традиционные рамки путем введения юридической ответственности перед будущими поколениями. Важно отметить, что хотя Г. Йонас считал, что апелляция к праву будущих поколений не вписывается в парадигму правовой регуляции, предлагаемый им новый категорический императив направлен регулятивным воздействием не столько в метафизические «глубины моральной мотивации личности, сколько в сферу общественной политики и предполагает со-ответственность за результаты коллективной деятельности» [Гаджикурбанова П.А., 2003:171], которая возможна лишь на базе своего рода «общественного договора», заключаемого в рамках правового пространства. Очень показательно и то, что попытки найти межконфессиональный консенсус в рамках Декларации о глобальной этике, предложенной швейцарским богословом Г. Кюнгом и обсужденной Парламентом религий мира в 1993 г., также не выходили за рамки поиска соглашения на базе правовых по своей сути принципов, согласно которым: 1) с каждым человеческим существом надлежит обращаться по-человечески и 2) человек не должен делать другим того, чего не желает себе31.
При выработке правового решения рассматриваемой проблемы можно опираться на уже накопленный мировой философией опыт осмысления перспектив формирования глобальной экологической этики на базе идеи солидарности между поколениями. В отечественной литературе этот опыт проанализирован в работах А.В. Прокофьева, в которых выделены три основные теоретические модели этики отношения к будущим поколениям: договорная, утилитаристская, интуитивистская. При этом наиболее релевантная правовому подходу договорная модель, как показывает автор, оказывается неработающей в силу уже упомянутого выше одностороннего характера зависимости между поколениями. Что касается утилитаристской модели, то ее последовательная реализация привела бы к чрезмерным жертвам со стороны нынешнего поколения в пользу бесконечного числа потомков. Наиболее перспективным является, по его мнению, интуитивистский подход, суть которого в том, что права будущих поколений не выстраиваются на основе договора, а выводятся из интуитивных представлений о фундаментальном этическом равенстве между людьми, то есть напрямую» [Прокофьев А.В., 2013: 78-93].
Интуитивистский подход к разработке прав будущих поколений сформулирован в работах Э. Вайсса, где развивается тезис о том, что следующие друг за другом поколения людей соединены между собой использованием Земли как общего наследия, в отношении к которому «каждое из поколений занимает одинаковое (или равное) положение, являясь, одновременно, пользователем и распорядителем по доверенности»32. В контексте нашей темы важно подчеркнуть, что этот тезис созвучен положению ст. 1 Всеобщей декларации о геноме человека и о правах человека, согласно которой геном лежит в основе изначальной общности всех представителей человеческого рода и «знаменует собой достояние человечества»33. Тот факт, что геном человека — наследие, доставшееся ныне живущему человечеству как единому коллективному субъекту от предшествующих поколений, — получил отражение и в Декларации ЮНЕСКО «Об ответственности нынешних поколений перед будущими поколениями», где говорится о необходимости сохранения генома человека. Таким образом, геном человека признан в качестве общего наследия, на которое нынешнее и будущие поколения имеют равное право. По-видимому, с позиций такого подхода будущие поколения следует рассматривать не как сообщество, доминирующее над ныне живущими индивидами, а в качестве отдельного субъекта (условного индивида), обладающего уязвимым статусом и нуждающегося в дополнительных гарантиях для того, чтобы его интересы были бы учтены наравне с интересами иных субъектов права на основе принципа формального равенства.
Другое направление поиска правового решения проблемы может быть связано с разработкой предлагаемой в литературе новой юридической конструкции института ответственности родителей, согласившихся на генетическое изменение своих потомков, которая предполагала бы возможность предъявления к ним материальных требований со стороны «детей, внуков и других прямых родственников субъекта с отредактированным геномом» [Трикоз Е.Н., Мустафина-Бредихина Д.М., Гуляева Е.Е., 2021: 83]. Зарубежная судебная практика последних лет продемонстрировала правомерность подобной постановки вопроса: речь идет об аналогичных по своей правовой сути судебных исках детей-инвалидов к врачам и родителям, отказавшимся когда-то от рекомендации по искусственному прерыванию беременности. Уже сложился и вошел в оборот судебной деятельности термин «неправомерное оставление в живых» [Zakharova М., Voronin М., 2018], который переводит проблему из морально-религиозной плоскости в правовую.
В этом контексте следует обратить внимание и на тот факт, что с 2014 г. Комитет ООН по правам ребенка имеет право рассматривать обращения со стороны несовершеннолетних, считающих, что они являются жертвами нарушения государством Конвенции ООН о правах ребенка34, в том числе и п.2 ст. 6 Конвенции, согласно которому государства-участники в максимально возможной степени обеспечивают здоровое развитие ребенка. На данном этапе можно, за неимением лучшего, использовать имеющееся у прокуратуры право обращаться в суд с иском в защиту прав на жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, включив будущие поколения в понятие «неопределенный круг лиц»: такой подход предлагает ряд отечественных цивилистов применительно к запрету на клонирование человека [Богданова Е.Е., Малеина М.Н., Ксенофонтова Д.С., 2020:134].
Заключение
В сложившейся ситуации шансы на то, что человечеству удастся найти адекватный ответ на вызовы технологической дегуманизации, невелики. Последствия неконтролируемой технологической экспансии в природу человека настолько масштабны и значительны, что ни одна социальная группа, представляющая собой политико-экономическую, интеллектуальную или духовную элиту общества, не в состояния взять на себя ответственность за принятие решений в данной области. Тем более недопустимо, чтобы эти процессы развивались стихийно (что сейчас во многом и происходит).
Необходимость широкого общественного обсуждения тех экзистенциальных рисков, которые несут в себе новейшие технологии, и определение приемлемых для всего человечества перспектив технологического развития отмечается во многих международных декларациях, рекомендациях и т.д., соответствующие положения закреплены в целом ряде международно-правовых актов. Однако их реализации требует «упорного труда, значительных человеческих и финансовых ресурсов» [Andorno R. et al., 2020: 3]. В противном случае вместо коммуникативного разума, функционирующего в режиме очерченного Ю. Хабермасом рационального дискурса, ориентированного на консенсус, сформируется внутренне противоречивое общественное мнение, которое станет легкой добычей манипуляторов, владеющих глобальными финансовыми ресурсами и преследующих корыстные интересы. Превращение общества в реального субъекта принятия решений в ситуации экзистенциального выбора требует создания новых институтов для формирования и выражения его политической воли. Именно это, по-видимому, имел в виду сам Ю. Хабермас, когда говорил, что «в преддверии глобализации, прокладывающей себе путь через объединившиеся рынки, многие из нас надеются на возвращение политического в ином, другом облике. Не в облике изначального состояния глобального государства по Гоббсу, обеспечивающего безопасность в направлении развития полиции, тайных служб и вооруженных сил, но в виде силы, придающей всему миру цивилизованный облик. Сегодня, — по мнению философа, — у нас осталась не более чем робкая надежда на хитрость разума — и немного на самовразумление» [Хабермас Ю., 2001].
Правда, эта надежда несколько укрепляется знанием о том, что в первобытную эпоху древний человек сумел в самом начале своего пути найти в себе ресурсы разума и воли, необходимые для того, чтобы с помощью социального творчества обуздать свои разрушительные животные инстинкты. Поэтому возможно, что и современному человеку удастся либо остановиться на пороге постчеловеческого будущего, либо суметь перейти границу между двумя эпохами, не утратив человечности. В свете такой обозримой исторической перспективы в рамках современной философии права актуализируются и приобретают новый смысл идеи русской религиозной философии всеединства с ее «предчувствием общей беды и мыслью о всеобщем спасении» [Гулыга А.В., 2004: 22].
Библиография
- Бердяев Н.А. Государство. Власть и право / Из истории русской правовой мысли. Л.: Лениздат, 1990. 245 с.
- Богданова Е.Е., Малеина М.Н., Ксенофонтова Д.С. Отдельные проблемы защиты прав граждан при использовании геномных технологий // LEX RUSSICA. 2020. N 5. С. 129-141.
- Варламова Н.В. Локдаун как способ реагирования на пандемию COVID-19: анализ в контексте Европейской конвенции о защите прав человека // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. N 3. С. 6-25.
- Вудс Т. Как католическая церковь создала западную цивилизацию. М.: ИРИСЭН, 2010. 280 с.
- Гаджикурбанова П.А. Страхи ответственность: этика технологической цивилизации Ганса Йонаса //Этическая мысль. 2003. N 4. С. 16-178.
- Гребенщикова Е.Г.Биотехнонаука и границы улучшения человека // Эпистемология и философия науки. 2016. N 2. С. 34-39.
- Гулыга А В. Предисловие. Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. М.: Айрис-пресс, 2004. С. 5-24.
- Дикенсон Д. Чем опасно ручное редактирование генома человека. Available at: https://forbes.kz//process/science/chem_opasno_ruchnoe_redaktirovanie_genoma_cheloveka/? (дата обращения: 15.02.2020)
- Йонас Г. Принцип ответственности: Опыт этики для технологической цивилизации. М.: Айрис-пресс, 2004.480 с.
- Корсани А. Капитализм, биотехнонаука и неолиберализм. Информация к размышлению об отношениях между капиталом, знанием и жизнью в когнитивном капитализме//Логос. 2007. N4. С. 123-143.
- Крэнстон М. Права человека. Документы. Paris: Ed. de la Seine, 1975. 376 c.
- Левандовский А.П. Вступит, слово / Перну Р. Элоиза и Абеляр. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 6-13.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1985. 536 с.
- Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М.: Прогресс. 1994. 272 с.
- Маслов В.М. Постчеловеческие тенденции техногенной цивилизации: нанотехнологии //Фундаментальные исследования. 2014. N 6. С. 871-875.
- Миланович Б. Глобальное неравенство доходов в цифрах: на протяжении истории и в настоящее время: обзор. М.: НИУ ВШЭ, 2014. 29 с.
- Монтгомери Дж. Модификация генома человека: вызовы со стороны сферы прав человека, обусловленные научно-техническими достижениями / Прецеденты Евро пейского суда по правам человека. Спец, выпуск «Права человека и биомедицина». М.: Развитие правовых систем, 201 С. 42-56.
- Назаретян А.П. Нелинейное будущее. М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2015. 409 с.
- Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма, 2006. 830 с.
- Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция // Вопро сы философии. 2002. N 3. С. 3-15.
- О’Салливан С. В поисках баланса между техническим прогрессом и уважением человеческого достоинства. Прецеденты европейского суда по правам человека. Спец, выпуск «Права человека и биомедицина». М.: Развитие правовых систем, 2019. С. 5-10.
- Подлазов А.В. Глобальная демографическая теория // Демографическое обозрение. 2018. N 1. С. 39-63.
- Понкин И., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник Российского Университета дружбы народов. 2018. Серия: Юридические науки. N 1. С. 91-109.
- Прокофьев А.В. Защита интересов будущих поколений в перспективе договорной этической теории // Вестник Московского университета. Серия: Философия. 2013. N 3. С. 78-93.
- Рикер П. Справедливое. М.: Логос, 2005. 299 с.
- Ромашов Р.А. (ред.) Правогенез: традиция, воля, закон СПб: Алетейя, 2021.480 с.
- Семенов Ю.И. Брак и семья: возникновение и развитие. Available at: URL: http:// www.scepsis.ru/library/id_6.html (дата обращения: 27.06.2020)
- Синельников С.П. Идея христианской антропологии об образе и подобии человека Богу в воспитании и образовании. 4.1. Святые отцы об «образе и подобии Божием» в человеке. 2010. Available at: URL: https://bogoslov.ru/article/817555 (дата обращения: 05.02.2021)
- Синченко Г.Ч. От митрополита Илариона до Н.А. Бердяева. Тысячелетний оксюморон русской философии права // Философия права. 2000. N 1. С. 4-19.
- Степин В.С. XXI век — радикальная трансформация типа цивилизационного развития / Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего. Материалы XVII Международных Лихачевских научных чтений. СПБ.: СПбГУ, 2017. С. 185-188. Степин В.С. Цивилизация и культура. СПБ: СПбГУ, 2011.408 с.
- Трикоз Е.Н., Мустафина-Бредихина Д.М., Гуляева Е.Е. Правовое регулирование процедуры генного редактирования: опыт США и стран ЕС // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2021. N 1. С. 67-86.
- Хабермас Ю. Вера и знание. Available at: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Haberm/Ver_Znan.php (дата обращения: 12.01.2021)
- Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синдбад, 2019. 278 с.
- Шалютин Б.С. Правогенез как фактор становления общества и человека // Вопросы философии. 2011. N 11. С. 14-26.
- Юдин Б.Г. Человек как объект, потребитель и мишень технонауки // Знание. Понимание. Умение. 2016. N 5. С. 5-22.
- Andorno R. et al. Geneva Statement on Heritable Human Genome Editing: The Need for Course Correction. Trends in Biotechnology, 2020, vol. XX, pp. 1-4.
- Darnovsky M. Germline modification carries risk of major social harm. Nature, 2008, vol. 453, pp. 827-828.
- Waal F., Ober J. Primates and Philosophies: How Morality Evolved. Princeton: University Press, 2005. 209 p.
- Haslam N. Dehumanization: An Integrative Review. Personality and Social Psychology Review, 2006, vol. 10, pp. 252-264.
- Kosinski M. Facial recognition technology can expose political orientation from naturalistic facial images. Available at: https://doi.org/10.1038/s41598020-79310-1 (дата обращения: 24.03.2021)
- Schwab К., Malleret T. COVID-19: The Great Reset. Geneva: World Economic Forum, 2020. 127 p.
- Weizsacker E., Wijkman A. Come On! Capitalism, Shorttermism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome. New York: Springer, 2018. 232 p. Zakharova M.V., Voronin M.V. Measure of Freedom in the Context of Legal Regulation of Genomic Research: Foreign Experience. Revista Dilemas contemporaneos: Educacion, Politica у Valores. Year VI. December. Available at: https://dilemascontemp.oraneoseducacionpoliticayvalores.com/_files/200004128c6b43c7b2e/EE%2018.12.16%20edida (дата обращения: 12.09.2019)






