Деконструкция правосубъектности или место искусственного интеллекта в праве
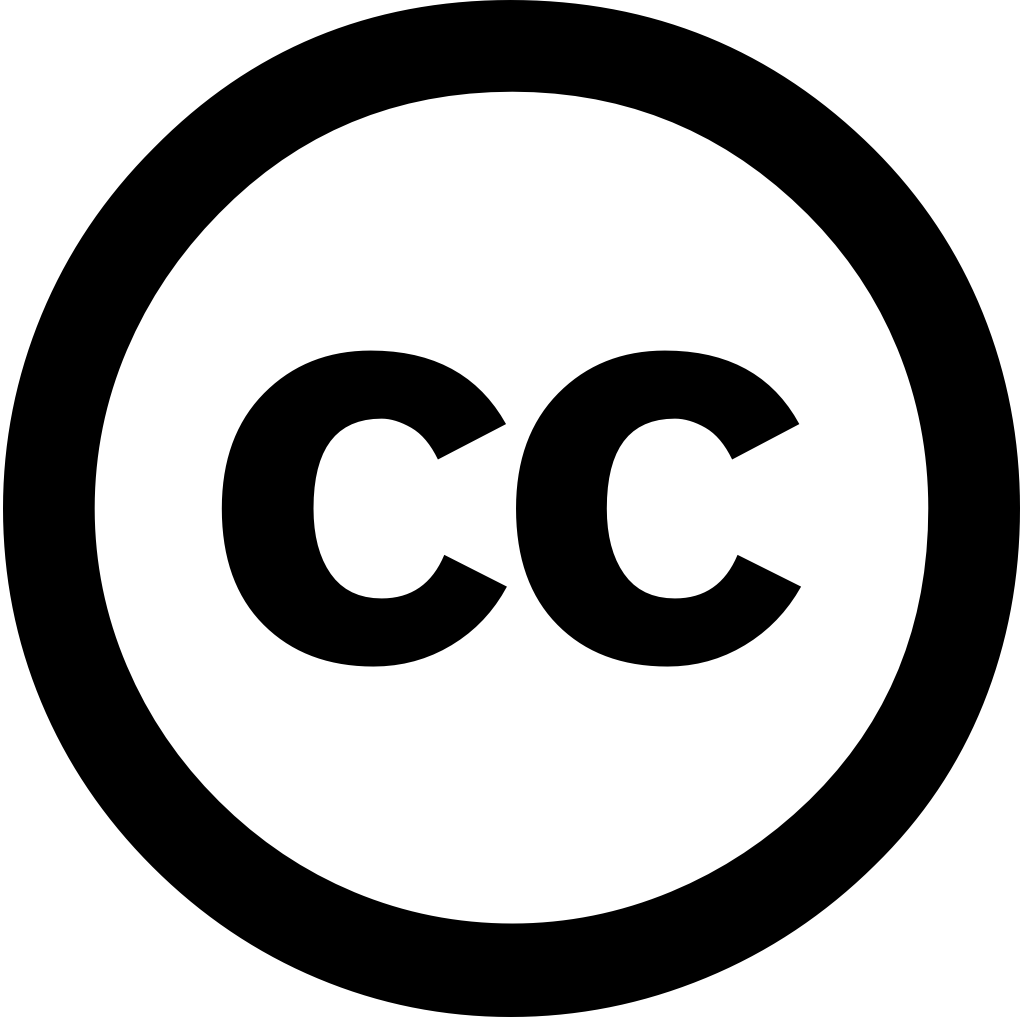

Published: June 30, 2021
Latest article update: Nov. 28, 2023
Abstract
В настоящее время в доктрине все чаще слышны призывы переосмыслить содержание категории субъектаправа: признать в качестве субъекта животных, искусственный интеллект и пр. Этому есть несколько объяснений, во-первых, изменение представлений о человеке и его положении в обществе, во-вторых, попытки переосмыслить традиционные категории права. На протяжении долгого исторического этапа определение содержания понятия субъекта права зависело от определения субъективного права, поскольку последнее связывали с юридически значимой волей субъекта. Следовательно, изменение воззрений на понятие субъективного права непременно приводит к пересмотру содержания самого субъекта. Основная цель статьи заключается в том, чтобы определить сущность категории субъекта права. Для этого с помощью исторического метода выявляется эволюция представлений о субъекте права. Утверждается, что подход У. Хофельда к пониманию субъективно-правовых структур позволил иначе взглянуть на содержание категории субъекта права: стало возможным признать в качестве обладателей различных субъективно-правовых категорий животных, искусственный интеллект. Тем не менее логика современных комментаторов У. Хофельда, а также сторонников столь гибкого подхода к определению правосубъектности не свободна от недостатков. Посредством метода аналитической юриспруденции автор демонстрирует возникающие проблемы.
Keywords
Искусственный интеллект, правосубъектность, юридические корреляты, правоспособность, У. Хофельд, В. Курки
ВВЕДЕНИЕ
Проблемы правосубъектности в последнее время вновь привлекают внимание как отечественных, так и зарубежных теоретиков. Причинами тому являются: (1) бурное развитие общественных отношений в сфере научно-технического прогресса; (2) изменение представлений о человеке и о его положении в обществе; (3) попытки переосмысления традиционных категорий права. Остановимся более подробно на второй и третьей причинах, поскольку первая носит, скорее, аксиоматический характер.
Итак, изменение представлений о человеке связано в первую очередь с деконструктивистской программой постмодернизма1. Человек, с одной стороны, все больше отчуждается от результата своей деятельности, в том числе, от политико-правовых явлений и процессов, с другой — возрастает осознание недопустимости такой тенденции (Chestnov, 2012). Именно по этой причине постмодернисты указали на «смерть субъекта», которая понимается как тотальное поглощение человека структурой (начиная от грамматики и заканчивая политическими институтами), которая превращает его в винтик, место или функцию в системе (Chestnov, 2009). Поскольку структура формирует потребности человека, личность трансформируется в члена аморфной массы (Krakauer, 2014). В правовых исследованиях кульминацией такого воззрения стали работы американского ученого Schlag (1991), который «децентрирует» понятие субъекта права, что позволяет говорить о случайном, изменчивом и нецелостном характере субъекта.
В отечественной литературе следствием рефлексии указанных проблем явилась констатация справедливого утверждения об уменьшении степени антропоцентричности права (Gabov, 2018). Любопытно, что в современной российской цивилистической доктрине вовсе отсутствуют фундаментальные исследования, посвященные этой теме. Исключения составляют статьи, в которых либо указывается на существование проблем с определением правосубъектности (Kozlova, 2018), либо задаются риторические вопросы о «стремительно развивающемся будущем», по-видимому, адресованные читателю.
Третьей причиной, как мы указали ранее, является попытка переосмыслить традиционные категории права. И связано это главным образом с эволюцией воззрений на содержание субъективного права (Tret’yakov, 2018). Для определения правосубъектности значимой представляется сущность субъективного права, поскольку на протяжении определенного исторического этапа субъектом признавался лишь человек, способный иметь интересы, проявлять волю и действовать (Hvostov, 2019). Другие существа не признавались субъектами, так как это противоречило бы понятию субъективного права, которое определялось как сфера власти, признанная объективным правом за субъектом для удовлетворения какого-либо человеческого интереса (Hvostov, 2019). Более любопытным представляется тот факт, что некоторые зарубежные ученые предпринимают попытки структурировать содержание правосубъектности, используя для этих целей «особые» права обладания (MacCormick, 2007). Содержание последних порой весьма противоречивое.
Все эти причины заставляют нас, во-первых, описать краткую историю развития представлений о субъекте права. Во-вторых, обратиться к современным концепциям правосубъектности, которые разработаны преимущественно в зарубежной доктрине. И, наконец, попытаться ответить на вопрос о так называемых «серых» зонах учения о субъекте права, а именно выявить место искусственного интеллекта в праве.
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУБЪЕКТЕ ПРАВА
В римском праве отсутствовало абстрактное понятие субъекта права. Тем не менее Гай указывал на то, что все право относится либо к лицам, либо к вещам, либо к искам2. Считается, что именно в римском праве впервые произведено различие между вещами (res) и лицами (persona) (Kurki, 2019). Слово persona, вероятно, является переводом греческого prosopon (πρόσωπον, что означает внешний облик), в латинском языке первоначально им обозначали маску, которую актеры надевали во время театрального представления. Позже таким термином определяли совокупность личных качеств человека, а также его социальных ролей (Gill, 1988), а затем непосредственно человека3. Уже в Corpus Iuris Civilis словом persona обозначали как социальную роль, так и человека, однако не в абстрактном значении, свойственном категории субъекта права.
В эпоху Высокого и Позднего Средневековья термин persona стали применять в отношении монастырей, а также других прообразов корпоративных организаций. Хорошей иллюстрацией может послужить знаменитое определение Папы Иннокентия IV корпораций в качестве persona ficta — фиктивность подразумевала, что такие лица не могут быть, к примеру, отлучены от церкви (Dewey, 1926).
Наиболее важным историческим этапом формирования абстрактного представления о субъекте права, а также о субъективных правах представляется эпоха Возрождения, именно в этот период сформировался ортодоксальный подход, согласно которому субъективное право непосредственно связано с субъектом. Это стало возможным благодаря теоретическому размежеванию иска и права, лежащего в его основе, и кристаллизации объективного «права» (ius)4.
Считается, что первым исследователем, который установил связь лица с правообладанием, был Г. Гроций. «Для того, чтобы понять права лиц на вещи, поскольку право существует лишь между лицами, которым оно принадлежит, и между вещами, на которое распространяется право, требуется, во-первых, определить правовое состояние лиц, во-вторых, правовое положение вещей» (Grotius, 1926; Kurki, 2019). Тем не менее настоящая революция в понимании субъекта связана с именем выдающегося немецкого ученого Г. Лейбница. Находясь под сильным влиянием Г. Гроция, Г. Лейбниц воспринял используемое в римской традиции деление права на относящееся к лицам, вещам и искам. В его интерпретации именно эти элементы относятся к простейшим, основным, правда, Г. Лейбниц для их обозначения использует соответственно термины субъекта, объекта и причины, кроме того, в качестве четвертого элемента ученый выделял право. Любопытно, что при объяснении правовых явлений Г. Лейбниц часто использует аналогии из области геометрии. «Как Эвклид составил «Элементы геометрии», так и в Corpus Juris содержатся элементы права, — писал ученый, — нам таковыми кажутся простейшие элементы, которые при взаимодействии служат основанием возникновения разнообразных случаев, возможных в сфере права — это лица, вещи, иски и права» (Artosi et al., 2013). Затем философ отмечает, что субъекты, обладающие способностью иметь права, могут быть естественными и гражданскими. Естественные — Бог, ангел, человек. Бог представляется субъектом высочайшего права вообще, вне всякого обязательства. Гражданская личность является некоторой совокупностью (collegium) лиц, объединенных единой волей, доступной для распознавания, которая может обязывать и быть обязываема (Yagodinskij, 1914).
Интересно, что обладание правом означает, что лицо имеет моральную возможность для осуществления своих прав (Kurki, 2019). Напротив, когда один субъект, вследствие моральной необходимости, вынужден приобрести либо отказаться от какого-либо права, речь идет об обязательстве.
Кроме того, каждое право относится к вещи (объекту) и приобретается на основании причины морального качества, которая заключается в природе и действии5.
Таким образом, Г. Лейбниц был первым, кто сформулировал абстрактное понятие субъекта и связал его содержание с возможностью иметь права и обязанности.
Дальнейшая эволюция взглядов на содержание категории субъекта связана с воззрениями И. Канта. Дело в том, что его моральная философия оказала значительное влияние на формирование наиболее важных юридических категорий, в том числе правосубъектности. Особое значение для дальнейшего изложения приобретает вторая формулировка категорического императива: «…поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» (Kant, 1965). По мнению философа, именно категорический императив представляет собой общеобязательный принцип, которым должны руководствоваться все люди независимо от их происхождения, положения и пр. Стоит отметить, что понимание автономии частного субъекта приобретает в кантовской интерпретации негативный характер: это то, в чем лицу нельзя препятствовать. При этом, говоря о «человечестве» И. Кант, имеет в виду, скорее, рациональную природу людей (Dean, 2006). Следовательно, вещи не могли быть субъектами, как у Г. Лейбница. Интересно, что для описания взаимосвязи между правом и корреспондирующей ему обязанностью, И. Кант впервые использует словосочетание «правовые отношения» (rechtliches Verhältnis), которые, разумеется, могут существовать лишь между людьми (Kurki, 2019).
Г. Гегель во многом опирался на подход, разработанный И. Кантом. Впрочем, гегелевское определение лица гораздо сложнее. С одной стороны, признается различие между субъектом и лицом. Так, субъектом может быть любое живое существо, которое имеет самосознание о себе не только вообще как о конкретном и каким-то образом определенном «я», а скорее имеет самосознание о себе как о совершенно абстрактном «я», в котором всякая конкретная ограниченность и значимость подвергается отрицанию и незначимы (Gegel’, 2019). С другой стороны, существенными характеристиками лица представляется то, что оно осознает себя свободным в себе самом и может от всего абстрагироваться (Gegel’, 2019). Огромное значение приобретает иное понимание воли субъекта, которое отличается от кантианского воззрения. Здесь акцент смещается на самореализацию индивида, на раскрытие его творческого потенциала, иными словами, на позитивный характер.
Стоит обратить внимание на то, что у Г. Гегеля личность обладает правоспособностью (Rechtsfähigkeit), которая представляет собой абстрактное и потому формальное право. Именно здесь впервые появляется указание на правоспособность. Кроме того, только личности обладают правом на вещи. Критикуя позицию И. Канта по поводу деления на вещные, личные и вещно-личные права, Г. Гегель писал: «…и личное право есть поэтому по существу вещное право, — если только понимать вещь в обычном смысле, как то, что вообще внешне по отношению к свободе, так что мое тело, моя жизнь суть также вещи. Это вещное право есть право личности как таковой» (Gegel’, 2019). Иными словами, рассуждения Г. Гегеля связаны с идеей «сферы свободы», которой личности обладают по отношению к вещам. Каждый может «вложить» свою волю в любую вещь, в результате чего последняя становится собственностью лица.
Нетрудно заметить, что И. Кант и Г. Гегель основное внимание уделяли человеку, говоря о свободе, воле, нравственности и морали. Это обстоятельство не могло не оказать влияния на выдающегося немецкого цивилиста Ф. К. фон Савиньи. Вслед за Г. Гегелем ученый использует категорию правоспособности (Rechtsfähigkeit), которая понимается как возможность обладания правами. Кто же является правоспособными лицами в интерпретации Савиньи? «Всякое право, — говорит Ф. К. фон Савиньи, — существует ради нравственной, присущей каждому отдельному человеку свободы. Поэтому изначальное понятие лица или субъекта права должно совпадать с понятием человека, и эту изначальную идентичность обоих понятий можно выразить следующей формулой: каждый отдельный человек, и только отдельный человек, является правоспособным» (Savin’i, 2012). Правда, затем уточняется, что, во-первых, в некоторых ситуациях отдельным людям может быть отказано полностью или частично в правоспособности, во-вторых, правоспособность может быть перенесена на нечто вне отдельного человека, т. е. может быть образовано юридическое лицо.
Понимание субъекта права в русле гегелевской и кантианской традиции отразилось и на восприятии субъективного права. Ф. К. фон Савиньи ориентировался на кантианскую версию автономии субъекта, суть которой состоит в том, что субъект свободен выбирать до того предела, пока его свобода выбора не ограничивает свободу выбора других субъектов (Tret’yakov, 2020). Вместе с тем содержание автономии воли имеет негативное определение, заключающееся в не препятствовании субъекту в чем-либо. Такое обстоятельство способствует эволюции субъективного права из атрибута субъекта в отношение между субъектами. Эти идеи, по мнению С. В. Третьякова, нашли свое отражение, с одной стороны, в учении Савиньи о правоотношении, поскольку субъективное право может существовать лишь в связи субъектов, с другой — в понимании юридической обязанности как обладающей конститутивным значением для определения субъективного права (Tret’yakov, 2020).
В отличие от Ф. К. фон Савиньи его ученик Г. Пухта в значительной мере сосредоточился на позитивном гегелевском значении воли, отсюда возрастающее значение самого субъективного частного права как господства воли, в то время как понятие правоотношения отходит на второй план (Tret’yakov, 2020).
Кульминация волевой теории субъективного права связана с идеями Б. Виндшайда — учеником Г. Пухты. В своем учебнике пандектного права он сразу же указывает на связь прав и обязанностей с конкретными субъектами, при этом последние делятся на естественных и искусственных. Естественным юридическим субъектом признается человек, поскольку «главнейшая задача юридического порядка состоит в проведении границ между сферами господства отдельных сталкивающихся человеческих индивидов» (Vindshajd, 1874). Напротив, об искусственном субъекте говорится при обсуждении юридических лиц. Интерес вызывает размышление Б. Виндшайда о глубоком влечении человека к олицетворению, которое коренится в самой человеческой природе. Дело в том, что, по мнению ученого, существуют права и обязанности без связи с каким-либо субъектом, однако человеку свойственно искусственным, мыслительным процессом находить соответствующего обладателя. «Так, права и обязанности, предназначенные для служения государственной цели, приписываются государству, права и обязанности, имеющие целью попечение о больных, приписываются больнице, права и обязанности, оставшиеся без субъекта по причине смерти их прежнего носителя и не перенесенные еще на наследника, приписываются самому наследству и т. д.» (Vindshajd, 1874).
Различия в подходах Ф. К. фон Савиньи и Б. Виндшайда, нашли отклик и в отечественной литературе дореволюционного периода. С. А. Муромцев следует логике Савиньи при изложении определения и основных разделений права. Ключевое значение у отечественного ученого приобретает категория правоотношений, которая образуется с помощью трех элементов: объект, субъект и среда, окружающая их (Muromcev, 2010). При этом субъектом является человек, о возможности действий которого идет речь в каждом конкретном случае. Определение действий напрямую связано с объектом, в качестве которого могут выступать другие люди или иные предметы. Объект играет пассивную роль в действиях субъекта (Muromcev, 2010).
Совершенно иным подходом следует В. М. Хвостов, со всей очевидностью придерживающийся позиции Б. Виндшайда. Здесь как субъективному праву, так и самому субъекту присуща ярко выраженная гегелевская воля. Именно человек способен иметь интересы, проявлять волю и действовать. Тогда как другие существа не могут быть субъектами права, иначе это противоречило бы понятию субъективного права, которое, как мы подчеркивали выше, понимается в качестве сферы власти, признанной объективным правом за субъектом для удовлетворения какого-либо человеческого интереса (Hvostov, 2019).
Таким образом, сложившийся в XIX в. подход к определению субъекта права можно охарактеризовать следующим образом:
- Субъекты права делились на естественные и искусственные. К первым относился человек, тогда как в качестве второго выступало юридическое лицо и прочие общности.
- Как правило, содержание понятия субъекта права зависело от определения субъективного права, поскольку последнее связано с юридически значимой волей субъекта.
- В немецкой цивилистике сложились дваразличных подхода к определению субъекта права, в основе которых лежат представления о воле Г. Гегеля и И. Канта. Ф. К. фон Савиньи следовал кантовской версии автономии субъекта, что обусловливает значительную роль конструкции правоотношения. Напротив, Г. Пухта и Б. Виндшайд сосредотачиваются на гегелевском понимании воли, отсюда, усиление роли господства воли. Очевидно, что ни при первом, ни при втором понимании вещи (животные, искусственный интеллект) не могут считаться субъектами права.
Кардинальные изменения связаны главным образом с «крахом» волевой теории субъективного частного права6, что позволило переосмыслить содержание понятия субъекта права. Вслед за этим было предложено вычленить несколько «логических атомов», нередуцируемых элементов, комбинации которых в различных обстоятельствах могут давать различные варианты субъективно-правовых структур (Tret’yakov, 2018). Заслуга в этом принадлежит американскому ученому У. Хофельду, на идеях которого необходимо остановиться более подробно.
ПОДХОД У. ХОФЕЛЬДА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУБЪЕКТА ПРАВА
Итак, возможность обладания субъективными правами к началу XX в. считается важнейшей характеристикой при обсуждении категории субъекта права. Вместе с тем, применяя концепцию У. Хофельда, возможно получить неожиданный результат: субъектами могут быть признаны животные, искусственный интеллект и пр.
Hohfeld (1917) пытался проиллюстрировать, что многие юридические понятия используются непоследовательно. Это обстоятельство приводит к ошибочным логическим построениям. Для разрешения указанной проблемы ученый разработал несколько «логических атомов» или позиций7, которые разделялись на позиции первого и высшего порядка. Грубо говоря, позиции первого порядка определяют, является ли поведение предписанным, дозволенным или запрещенным, тогда как «атомы» наивысшего порядка относятся к динамике отношения, следовательно, лишь косвенно относятся к дозволениям, предписаниям и запретам (Kurki, 2019).
Liberty, claim, duty, no-right относятся к позициям первого порядка. При этом duty означает, что А предписано определенное поведение. В свою очередь, В обладает правом требования (claim) в отношении А. Отсюда следует, что duty всегда сохраняется по отношению к кому-либо. Эти позиции claim/duty образуют корреляты, поскольку существуют в логической связи.
Аналогичным образом liberty и no-right коррелятивны. Например, С дозволено поступать каким-либо образом (liberty), выходит, D не имеет никакого требования к С (no-right). Здесь уместно привести аналогию из деликтного права: причинение вреда с согласия потерпевшего. В терминологии У. Хофельда причинение вреда будет определяться с помощью liberty, а отсутствие требования о возмещении — no-right.
Позициями высшего порядка являются liability, power, disability, immunity. Позиция power заключается в возможности односторонним волеизъявлением изменить юридическое отношение, тогда как disability говорит об отсутствии таковой. Liability Е перед F, означает, что последний может изменить своим волеизъявлением хотя бы одну позицию Е. Напротив, immunity свидетельствует о невозможности этого изменения. К примеру, Е желает связать себя договорными отношениями с F и предлагает заключить на определенных условиях договор. После получения соответствующего предложения у F возникла power на заключение договора, в то же время E занимает позицию связанности liability по отношению к F.
Важно иметь в виду, что хофельдианские корреляты представляют собой не реально исторически существующие типы субъективных прав, а теоретически выделенные логические структуры, комбинации которых могут образовывать субъективно-правовые структуры (Tret’yakov, 2018). В отечественной литературе весьма удачно обосновывается удобство и гибкость логических построений У. Хофельда, поскольку они помогают учитывать появление новых объектов, требующих выработки специфических и оригинальных схем правонаделения (Tret’yakov, 2018). Тем не менее этот подход удобен и при анализе обладателя таких позиций. Разумеется, сам У. Хофельд считал единственно возможным субъектом только человека. Впрочем, это обстоятельство не означает, что его субъективно-правовые структуры относятся лишь к человеку.
В современной теории права можно выделить три теории правонаделения, которые так или иначе связаны с подходом У. Хофельда. Первой представляется концепция, согласно которой право — любая юридическая позиция, которая выгодна для ее обладателя. В этом смысле хофельдианский immunity может быть выражен в качестве права. К примеру, в доктрине зачастую обсуждается проблема наделения животных статусом субъекта права, некоторые даже предлагают разработать для этого специальную субъективно-правовую структуру (right to be taken into account) (Pietrzykowski, 2017).
Второй подход условно можно обозначить в качестве волевого. Представителями последнего являются Г. Харт, C. Wellman (1995), H. Steiner (1994) и некоторые другие ученые. Для иллюстрации остановимся на размышлениях Г. Харта о понятии субъективного права. «(1) Высказывание формы «X имеет субъективное право» истинно, если выполняются следующие условия: (а) в наличии имеется правовая система; (b) в соответствии с нормой или нормами этой системы некое иное лицо Y в сложившихся обстоятельствах обязано совершить некоторое действие или воздержаться от него; (с) эта обязанность находится в правовой зависимости от выбора X или иного лица, уполномоченного действовать от его имени, и при этом Y обязан совершить некоторое действие или воздержаться от него, только если в этом состоит выбор X (или какого-то указанного лица) или, наоборот, пока X не выберет обратное; (2) высказывание формы «X имеет субъективное право» употребляется для того, чтобы получить юридическое заключение в конкретном случае, который подпадает под такие нормы» (Hart, 1954). Отсюда следует вывод о том, что субъектом может признаваться лишь тот, кто обладает способностью потребовать исполнения обязанности другим лицом.
Сторонники третьей теории утверждают, что обязанность определенного лица Y является конституирующим признаком субъективного права X в том случае, если интересы X удовлетворяются исполнением такой обязанности Y. Этот подход был развит Kramer (2001a) и получил название «теория интересов».
Каждая из перечисленных теорий обладает существенными недостатками при более детальном анализе. Так, подход интереса чрезмерно расширяет категорию субъектов, поскольку зависит от весьма неопределенного критерия «удовлетворенного интереса». Возможно ли предположить, что конституционная обязанность сохранять природу и окружающую среду означает наличие соответствующих прав, скажем, у растений? Разумеется, ответ должен быть отрицательным, тем не менее без дополнительного критерия такой вывод представляется не очевидным8. Напротив, когда речь заходит о животных, представители теории интересов говорят о возможности признания за ними статуса субъекта, поскольку живые существа могут обладать интересами.
Волевая теория Г. Харта также имеет ряд недостатков. В частности, с трудом объясняет правосубъектность несовершеннолетних, ограниченно дееспособных вследствие психических расстройств, так как указанные категории лиц с трудом могут потребовать исполнения обязанности от другого лица. В ранних работах Г. Харт вовсе отрицает правосубъектность малолетних (Hart, 1955).
В ответ на указанные проблемы Kurki (2019) разработал любопытную теорию правосубъектности как совокупности различных субъективно-правовых позиций. Ученый в своих рассуждениях опирается на воззрения поздних хофельдианских комментаторов Naffine (2009) и Tur (1988). Так, Н. Наффин писала, что «субъект права состоит из совокупности различных субъективно-правовых позиций, в частности, из прав и/или обязанностей, которые зависят от природы и цели конкретного правоотношения. Права и обязанности могут образовывать большие или малые «пучки» (bundles), это означает, что содержание правосубъектности обусловлено юридическим контекстом» (Naffine, 2009). При этом под контекстом имеется в виду, к примеру, возраст лица. В этом отношении правосубъектность напоминает подход к определению собственности в качестве bundle of rights.
В. Курки критикует столь широкое понимание правосубъектности, поскольку вновь стирается граница между субъектом и не-субъектом. Он предлагает выделять активные и пассивные элементы правосубъектности. Так, пассивная заключается в способности, во-первых, быть «выгодоприобретателем» какой-либо позиции, иными словами, последняя направлена на защиту такого «выгодоприобретателя» от причинения вреда или устанавливает приоритет его интересов. Во-вторых, способность получать выгоду/нести бремя от какой-либо сделки. К примеру, малолетний, получивший имущество по завещанию.
Активная правосубъектность также состоит из двух частей. Первая заключается в том, может ли лицо быть привлечено к уголовной, административной и гражданской ответственности. Второй элемент характеризуется способностью своими действиями создавать юридически значимые последствия.
Пассивные элементы помогают разграничить статус животных и малолетних, в то время как активные служат для различия положений несовершеннолетних и совершеннолетних. Для одних целей субъектом может признаваться лицо, обладающее лишь некоторыми элементами, тогда как для других такая возможность отсутствует. Все элементы (пассивные и активные) сходятся лишь в совершеннолетнем, психически здоровом лице.
Разумеется, далее идет еще более подробная классификация как элементов активной, так и пассивной правосубъектности. В. Курки проводит этот анализ во многом для того, чтобы установить взаимовлияние (или как он это называет «интеграцию») таких позиций. К примеру, ученый устанавливает, что деликтоспособность (активный элемент) зависит от способности быть «выгодоприобретателем» какой-либо позиции (пассивный элемент). Такая взаимозависимость объясняет, почему правосубъектность нельзя рассматривать как совокупность статически отдельных друг от друга частей, а надлежит понимать в качестве функционально единого целого.
Зависимые активные и пассивные элементы образуют «правовые платформы» (legal platform). Значение таких рассуждений заключается главным образом в том, что они позволяют отвлечься от разработки всеобщей концепции правонаделения, объединяющей порой несовместимые элементы, в то же время сосредоточиться на субъективно-правовых структурах (или в терминологии В. Курки «правовых платформах»), различные сочетания которых образуют правосубъектность. Тем не менее возникает вопрос относительно признания за вещами статуса субъектов. В. Курки отмечает, что при первом приближении кажется, реки и прочие неодушевлённые предметы могут занимать определенную платформу, следовательно, быть субъектами. Однако такой вывод представляется весьма поспешным. Одним из ключевых условий является способность быть «выгодоприобретателем» какой-либо субъективно-правовой структуры. Здесь важно отметить, что в основе признания за тем или иным лицом пассивной правосубъектности лежит моральная концепция наивысшей ценности. Читатель может усмотреть некоторое сходство с позицией И. Канта, вместе с тем В. Курки нужна моральная аргументация, чтобы обосновать правосубъектность животных. Ученый апеллирует к разграничению «велферизма»9 и «аболиционизма»10, введённого Г. Франсьоне для оправдания правосубъектности животных. После долгих рассуждений В. Курки констатирует отсутствие наивысшей ценности у неодушевленных предметов, тогда как за животными и малолетними такая ценность признается. В связи с этим любопытно проанализировать место искусственного интеллекта (далее — ИИ) с точки зрения подхода В. Курки.
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ В. КУРКИ
Ученый начинает обсуждение с обозначения трех важнейших проблем, которые требуется разрешить. Во-первых, имеет ли ИИ наивысшую ценность? Дело в том, что утвердительный ответ на поставленный вопрос означает признание за ИИ пассивной правосубъектности. Отсюда следует возможность защиты от причинения вреда.
Во-вторых, может ли ИИ быть деликтоспособным? Ведь, как уже было отмечено, ученый устанавливает взаимосвязь последней со способностью быть «выгодоприобретателем» какой-либо позиции.
Наконец, возможность ИИ выступать в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
Все три проблемы коррелируют с активными и пассивными элементами теории В. Курки, которые рассматривались в предыдущем разделе.
Для того чтобы обосновать наивысшую ценность ИИ достаточно, по мнению ученого, чтобы в определенных обстоятельствах ИИ поступал как человек. Сразу же оговоримся, что наличие запрета причинять вред какому-либо благу еще не означает его правосубъектности. Весьма неточным в этой связи выглядит замечание А. В. Габова о том, что ст. 245 Уголовного Кодекса РФ признает за животными право на такое обращение, которое не влечет гибели или увечья (Gabov, 2018), поскольку такая норма устанавливает лишь ответственность за жестокое обращение с животными.
«Как и в случае с социальными организациями мы вправе рассматривать ИИ как субъект, когда он может действовать как человек в конкретных ситуациях: фактически обладать вещью, заключать договоры и т. д.» (Kurki, 2019). При этом здесь не имеется в виду понимание и рефлексия самой правовой природы владения или договора, скорее, речь идет о простом целеполагании. К примеру, ИИ не требуется понимать, что собой представляет договор, для того чтобы его заключить. Такой прагматический подход к определению правосубъектности ИИ разделяется некоторыми учеными (Chopra & White, 2011). Тем не менее в литературе все чаще отмечается, что ИИ свойственно выходить за рамки человеческих действий, создавая поведенческие модели, сложно поддающиеся прогнозированию (Selbst, 2020).
Определить активную правосубъектность представляется сложнее, ведь, с одной стороны, ИИ может использоваться лишь в качестве вспомогательного инструмента. Характерной иллюстрацией является заключение договоров в сети «Интернет». Разумеется, сам персональный компьютер не является субъектом такого договора. С другой стороны, мы можем помыслить такой ИИ, который может приобрести способность мыслить и осознавать себя как отдельную личность, хотя и не обязательно его мыслительный процесс будет подобен человеческому11. В связи с этим любопытно привести несколько часто цитируемых в зарубежной литературе примеров. Предположим, разработанный для игры в шахматы ИИ, предчувствуя скорый проигрыш, вызывает в здание, где проходит турнир, отряд саперов, чтобы прервать игру (Selbst, 2020). Другим примером служит полностью автоматизированное транспортное средство. Представим, что создатели такой машины программируют ее свободно выбирать время заправки. Через месяц после использования ИИ понимает, что транспортное средство работает эффективнее, если начинает день с полностью заправленным баком. Следующей ночью ИИ решает запустить бензиновый двигатель в гараже на ночь. Понятно, какие последствия для жителей дома может вызвать такое решение (Selbst, 2020).
К сожалению, существуют реальные примеры причинения вреда жизни и здоровью полностью автоматизированными роботами. В 1981 г. промышленный робот стал причиной смерти сотрудника японской мотоциклетной фабрики. Рабочий намеревался провести техническое обслуживание робота, однако не смог его выключить. Это привело к тому, что робот причинил несовместимые с жизнью травмы сотруднику (Hallevy, 2010).
Все обозначенные выше примеры свидетельствуют о необходимости осмысления такого элемента активной правосубъектности, как способность быть привлеченным к ответственности. Что мешает запрограммировать ИИ действовать, не причиняя вреда и не нарушая каких-либо интересов и прав других лиц? Ответ простой — соображения экономического анализа. «Представьте семью из четырех человек, — рассуждает ученый, — которые забронировали номер в небольшом отеле, где всего три четырехместных люкса. Тем не менее до их заезда другая семья из двенадцати человек заселяется в эту гостиницу и занимает все три номера. Для того чтобы избежать потенциального конфликта управляющий гостиницы запрашивает у соседнего отеля информацию о свободных номерах и предлагает этот вариант первой семье. Общественное благосостояние увеличилось, поскольку как первая, так и вторая семьи были размещены. Однако договорные обязательства с первой семьей были нарушены, если бы они не согласились с изменением бронирования» (Kurki, 2019). Вполне вероятно, что ИИ будет действовать, руководствуясь соображениями общественного благосостояния. Любопытно, что компания Google запрограммировала свои высокоавтоматизированные транспортные средства таким образом, чтобы они могли превышать установленные скоростные ограничения в ситуациях, когда следование им вызывает повышенную опасность (Kurki, 2019)12.
Вопрос об ответственности ИИ является одним из самых дискутируемых. В. Курки отмечает, что одной из возможных санкций представляется отключение ИИ. При этом достаточно, чтобы ИИ признавал, что такое отключение повлечет собой недостижение цели, ради которой он создавался. Тем не менее логично предположить, что некоторые меры гражданско-правовой ответственности предполагают наличие у стороны, виновной в нарушении обязательства, имущества, за счет которого (в большинстве случаев) происходит удовлетворение требований потерпевшего (Solum, 1992). Это обстоятельство, во-первых, вновь предопределяет вопрос о правообладании, во-вторых, связано с возможностью ИИ быть субъектом предпринимательской деятельности.
Для этого В. Курки предлагает следующую классификацию ИИ (таблица 1).
В качестве иллюстрации может выступать участие ИИ в биржевой торговле. Разумеется, субъектом по сделкам, совершаемым при помощи ИИ, будет либо брокерская фирма, либо инвестиционный фонд. Получается, что такой случай располагается в первых двух столбцах таблицы: отсутствие самостоятельности и невозможность действовать от своего имени (Pagallo, 2013).
ТАБЛИЦА 1 / TABLE 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ИИ / TWO DIMENSIONS OF AI LEGAL PERSONHOOD13
Способность самостоятельно отвечать по долгам | 1. Отсутствие самостоятельности. ИИ часть «правовой платформы» другого субъекта. | 2. Частичная самостоятельность. «Правовая платформа» ИИ частично отдельная, однако в некоторых ситуациях другой субъект несет ответственность по долгам ИИ. | 3. Полная самостоятельность. ИИ обладает «правовой платформой», которая представляется полностью независимой. |
Способность действовать от своего имени | 1. Не может действовать от своего имени. Осуществление любого полномочия создает, изменяет или прекращает права и обязанности для другого субъекта. | 2. Частично вправе действовать от своего имени. В некоторых ситуациях считается, что ИИ действует от своего имени. | 3. Действует от своего имени. ИИ создает, изменяет или прекращает права и обязанности от своего имени. |
Впрочем, таблица напоминает описание правового положения несовершеннолетних. Первый верхний столбец отчетливо коррелирует с нормой об ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет (ст. 1073 ГК РФ), тогда как второй верхний аналогичен п. 2 ст. 1074 ГК РФ о возмещении вреда родителями, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества.
Интересно обратить внимание на третьи столбцы. Существуют ли доктринальные основания помыслить полную самостоятельность и способность действовать от своего имени? В. Курки дает положительный ответ. При этом аргументы, подтверждающие его позицию, обнаруживаются в сфере корпоративного права. К примеру, в результате смерти единственного участника юридическое лицо все еще остается субъектом права. Это обстоятельство позволяет предположить, что ИИ может осуществлять контроль и управление юридическим лицом. После долгих рассуждений, руководствуясь выводами Ш. Байерна (Bayern, 2015), В. Курки находит для этого догматические предпосылки в американском праве. В каких случаях может возникнуть необходимость в конструкции юридического лица, управляемого и контролируемого ИИ?
Предположим, весьма состоятельный человек решает инвестировать в определенный район города, чтобы повысить стоимость земельных участков, собственником которых он является. Однако этот человек имеет плохую репутацию, и все отказываются вступать с ним в какие-либо деловые отношения. В качестве решения он создает юридическое лицо с солидным уставным капиталом и определяет его цель — повышение инвестиционной привлекательности в этом городском районе. Контроль и управление организацией возлагаются на ИИ. При этом цель ИИ совпадает не только с целью состоятельного человека, но и с интересами других собственников земельных участков в этом районе. Теперь представим, что для достижения указанной цели организация заключает с третьим лицом договор, в случае неисполнения которого единственным субъектом, обладающим соответствующим притязанием будет юридическое лицо, которое управляется ИИ.
Таким образом, ответы на три поставленных в самом начале этого раздела вопроса зависят от способностей действовать от своего имени и отвечать по своим долгам. Чем больше независимости и самостоятельности появляется у ИИ, тем обширнее количество субъективно-правовых структур, занимаемых им. Именно теория В. Курки позволяет выработать оригинальную схему правонаделения, а также проанализировать «серые зоны» учения о правосубъектности.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Как часто при рассмотрении тех или иных «серых зон» концепция В. Курки упирается в обсуждения контекста? Почти каждый раз. Получается весьма любопытная картина. С одной стороны, признается неудовлетворительность традиционного подхода к определению содержания понятия «субъекта права», с другой — предлагается множество комбинаций субъективно-правовых структур, которые зависят от динамического юридического контекста. Для этих целей вырабатывается оригинальное представление о «правовых платформах», активных и связанных с ними пассивных элементах правосубъектности и пр. В качестве аналогии такой платформы можно представить сильно натянутую ткань, на которую кладутся стальные шарики разного веса. Чем меньше шарик — тем слабее воздействие, оказываемое им. Так и в подходе В. Курки, правовая платформа — аналог ткани, тогда как субъектами следует признавать все то, что оказывает на нее воздействие. Это обстоятельство отличает воззрение В. Курки от взглядов других теоретиков, поскольку позволяет сместить акцент с рассмотрения сущностных характеристик субъекта, его воли, мотивов и пр. на субъективно-правовые структуры, которые им затрагиваются. Вероятно, именно по этой причине к концу книги ученый признает некорректность вопроса: «Должен ли X быть субъектом права?» Отметим, что такое рассуждение очень напоминает поиск определений сторонниками аналитической юриспруденции.
Форма вопроса «что есть Х?» приводит к недоразумениям, поскольку она предполагает, что ответ должен заключаться в определении некоторой вещи или качества, к которому непосредственно прикреплено данное выражение. Тем не менее юридические понятия совершенно иные, их отношение к фактам намного более сложно, опосредованно и нуждается в прояснении. Обычные методы определения приводят к тому, что в результате они искажаются и мистифицируются (Hart, 1957). Г. Харт указал на неэффективность определения понятий через родовые и видовые отличия, поскольку такая техника не учитывает своеобразия правовых понятий (Ogleznev & Surovcev, 2013). Главным образом это связано с тем, что юридические выражения не имеют непосредственной связи с аналогами в мире фактов, что наблюдается у большинства обычных слов, при этом обычные слова не эквивалентны выражениям, употребляемым в праве. В связи с этим Г. Харт предлагает метод выявления содержания понятия, смысл которого заключается в том, что вместо определения единичного термина необходимо рассмотреть предложение, где единичное слово играет характерную для себя роль и объясняется, во-первых, посредством спецификации условий, при которых все высказывание истинно, и, во-вторых, посредством того, как данное слово употребляется для того, чтобы получить заключение на основании правил в конкретном случае (Hart, 1954). Такие рассуждения весьма близки позициям философов-аналитиков о методе контекстуального перевода (Surovcev, 2012)14. Смысл этого метода состоит в том, что выражение должно анализироваться только в рамках контекста его употребления (Ogleznev & Surovcev, 2013).
В этой связи идеи В. Курки напрямую связаны с методом выявления содержания юридических понятий Г. Харта. Получается, вопрос «что такое субъект права?» означает не только выявление и перечисление необходимых и достаточных существенных признаков понятия, но и описание той роли, которую играет данное понятие в определенном контексте. Но метод Г. Харта, а вслед за ним и рассуждения В. Курки применимы лишь при строгом соблюдении последовательности (очередности) в постановке вопросов. К примеру, для Г. Харта, чтобы ответить на вопрос «что такое субъект права?», необходимо знать ответ на другой вопрос «что такое норма права?». Получается, второй вопрос — онтологический, тогда как первый — эпистемологический; или второй — предварительный вопрос, а первый последующий (Ogleznev & Surovcev, 2013). Для В. Курки в качестве основополагающего выступает вопрос об определении взаимосвязи пассивных и активных элементов, которые образуют правовую платформу.
Другой проблемой представляется то, что понятие субъекта права относится к сфере определений, имеющих фундаментальное значение для права. Если мы согласимся с тем, что в разных юридических контекстах этот термин имеет различное содержание, то возникает проблема выявления пассивных и активных элементов. Иными словами, если для определения «субъекта права» нам требуются знания об уже определенном понятии «правовой платформы», каким образом, оставаясь в рамках юридического языка, определить саму «правовую платформу» или другие основные правовые понятия?15 И В. Курки сталкивается с такой проблемой при обсуждении элементов пассивной и активной правосубъектности. В некоторых случаях автор лишь констатирует, что те или иные позиции следует мыслить в качестве активных или пассивных16.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Artosi, A., Pieri, B., & Sartor, G. (2013). Leibniz: Logico-Philosophical puzzles in the law: Philosophical questions and perplexing cases in the law. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5192-7
2. Bayern, S. (2015). The implications of modern business - Entity law for the regulation of autonomous systems. Stanford Technology Law Review, 19(1), 93-112. https://law.stanford.edu/publications/the-implications-of-modern-business-entity-law-for-the-regulation-of-autonomous-systems
3. Bodenheimer, E. (1956). Modern analytical jurisprudence and the limits of its usefulness. University of Pennsylvania Law Review, 104(8), 1080-1086.
4. Brett, A. (1997). Liberty, right and nature: Individual rights in later scholastic thought. Cambridge University Press.
5. Chestnov, I. L. (2009). Sub”ekt prava: Ot klassicheskoj k postklassicheskoj paradigme [Legal person: From classical to postclassical paradigm]. Pravovedenie, 284(3), 22-30.
6. Chestnov, I. L. (2012). Postklassicheskaya teoriya prava [Postclassical theory of law]. Alef-Press.
7. Chopra, S., & White, L. (2011). A legal theory for autonomous artificial agents. University of Michigan Press. https://doi.org/10.3998/mpub.356801
8. Dean, R. (2006). The value of humanity in Kant’s moral theory. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199285721.001.0001
9. Dewey, J. (1926). The historic background of corporate legal personality. Yale Law Journal, 35(6), 655-673.
10. Dozhdev, D. V. (Ed., Transl.). (2020). Gai Institutions = Gai Institutionum commentarii quattuor. Statute.
11. Frege, G. (2000). Osnovopolozheniya arifmetiki. Logiko-Matematicheskoe issledovanie o ponyatii chisla [Foundations of arithmetic. Logical and mathematical research on the concept of number]. Vodolej.
12. Gabov, A. V. (2018). Pravosub”ektnost’: Tradicionnaya kategoriya prava v sovremennuyu epohu [Legal personality: A traditional category of law in the modern era]. Vestnik Saratovskoj Gosudarstvennoj Yuridicheskoj Akademii, 121(2), 96-113.
13. Gegel’, G. (2019). Filosofiya prava [Philosophy of law]. Izd-vo Yurajt. https://urait.ru/bcode/411565
14. Gill, C. (1988). Personhood and personality: The four-Personae theory in cicero, De Officiis I. Oxford Studies in Ancient Philosophy, 6, 169-199.
15. Grotius, H. (1926). The Jurisprudence of Holland (R.W. Lee, Ed., Transl.). Clarendon Press.
16. Hallevy, G. (2010). The criminal liability of artificial intelligence entities - From science fiction to legal social control. Akron Intellectual Property Journal, 4(2), 171-201.
17. Hart, H. L. A. (1954). Definition and theory in jurisprudence. Law Quarterly Review, 70(1), 37-60.
18. Hart, H. L. A. (1955). Are there any natural rights? The Philosophical Review, 64(2), 175-191.
19. Hart, H. L. A. (1957). Analytical jurisprudence in mid-Twentieth century: A reply to professor Bodenheimer. University of Pennsylvania Law Review, 105, 953-975.
20. Hohfeld, W. (1917). Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning. Yale Law Journal, 26(8), 710-770.
21. Hvostov, V. M. (2019). Sistema rimskogo prava [Roman law system]. Izdatel’stvo Yurajt. https://urait.ru/bcode/430492
22. Kant, I. (1965). Sochineniya [Works] (Vol. 4). Mysl’.
23. Kozlova, N. V. (2018). Abstraktnoe i konkretnoe ponimanie sub”ekta, pravosposobnosti i grazhdanskogo pravootnosheniya [Abstract and concrete understanding of the subject, legal capacity and civil legal relationship]. In Grazhdanskoe pravo: Sovremennye problemy nauki, zakonodatel’stva, praktiki: Sbornik statej k yubileyu doktora yuridicheskih nauk, professora Evgeniya Alekseevicha Suhanova. Statute.
24. Krakauer, Z. (2014). Ornament massy: [sb. esse] [Mass ornament]. Ad Marginem Press.
25. Kramer, M. (2001a). Getting rights right. In Matthew H. Kramer (Ed.), Rights, wrongs and responsibilities. Palgrave. https://doi.org/10.1057/9780230523630
26. Kramer, M. (2001b). Do animals and dead people have legal rights? Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 14(1), 29-54. https://doi.org/10.1017/S0841820900002368
27. Kurki, V. (2019). A theory of personhood. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/ oso/9780198844037.001.0001
28. MacCormick, N. (2007). Institutions of laws: An essay in legal theory. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198267911.001.0001
29. Muromcev, S.A. (2010). Izbrannye trudy [Selected Works]. Rossijskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN).
30. Naffine, N. (2009). Law’s meaning of life: Philosophy, religion, Darwin and the legal person. Hart Publishing. https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2010.00832.x
31. Ogleznev, V. V., & Surovcev, V. A. (2013). Analiticheskaya filosofiya prava G. Harta i pravovoj realizm [Analytical philosophy of the rights of Hart and legal realism]. Pravovedenie, 309(4), 134-147.
32. Pagallo, U. (2013). The laws of robots. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6564-1
33. Pietrzykowski, T. (2017). The idea of non-personal subjects of law. In A. J. Kurki, & T. Pietrzykowski (Eds.), Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn (pp. 49-67). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53462-6
34. Savin’l, F.K. fon. (2012). Sistema sovremennogo rimskogo prava [The system of modern Roman law] (Vol. 8) (G. Zhigulina, Transl.) (O. Kutateladze, & V. Zubarya, Eds.). Statute. Odessa: Centr issledovaniya prava im. Savin’i.
35. Schlag, P. (1991). The problem of the subject. Texas Law Review, 69, 1627-1743. Schlag, P. (1995). Anti-Intellectualism. Cardozo Law Review, 16, 1111-1120.
36. Selbst, A. D. (2020). Negligence and AI’s human users. Boston University Law Review, 100(4), 1315-1376. http://www.bu.edu/bulawreview/volume-100-number-4-september-2020
37. Solum, L. (1992). Legal personhood for artificial intelligences. North Carolina Law Review, 70(4), 1231-1287.
38. Steiner, H. (1994). An essay on rights. Blackwell.
39. Sunstein, C. (2004). Can animals sue? In C. R. Sunstein & M. C. Nussbaum (Eds), Animal rights: Current debates and new directions. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195305104.001.0001
40. Surovcev, V. A. (2012). O metodah analiticheskoj filosofii [On the methods of analytical philosophy]. Analiticheskaya filosofiya: Problemy i perspektivy razvitiya v Rossii. St. Petersburg.
41. Tret’yakov, S. V. (2018). Yuridicheskoe gospodstvo nad ob”ektom kak dogmaticheskaya konstrukciya kontinental’noj civilistiki [Legal domination over the object as a dogmatic design of continental civilistics]. In Grazhdanskoe pravo: sovremennye problemy nauki, zakonodatel’stva, praktiki: Sbornik statej k yubileyu doktora yuridicheskih nauk, professora Evgeniya Alekseevicha Suhanova. Statute.
42. Tret’yakov, S. V. (2020). Sub”ektivnoe chastnoe pravo i «yurisprudenciya ponyatij»: Kul’minaciya i krizis volevoj teorii sub”ektivnogo prava. Vestnik Grazhdanskogo Prava, 20(3), 9-42. https://doi.org/10.24031/1992-2043-2020-20-3-9-42
43. Tur, R. (1988). The “person” in law. In A. Peacocke, & G. Gillett (Eds), Persons and personality: A contemporary inquiry. Basil Blackwell.
44. Vindshajd, B. (1874). Uchebnik pandektnogo prava. T. I. Obshchaya chast’ [Textbook of Pandek law. General Part (Vol. 1)] (S.V. Pahvana, transl.). Izdaniye Giyeroglifa i Nikiforova
45. Vitgenshtejn, L. (2020). Logiko-filosofskij traktat [Logical and philosophical treatise]. Izd-vo AST.
46. Wellman, C. (1995). Real rights. Oxford University Press.
47. Yagodinskij, I. I. (1914). Filosofiya Lejbnica. Process obrazovaniya sistemy. Pervyj period. 1659-1672 [Philosophy Leibnitsa. The process of education system. First period. 1659-1672]. Kazan’






